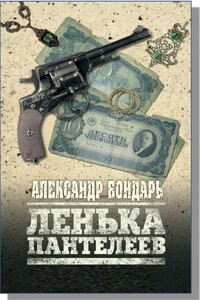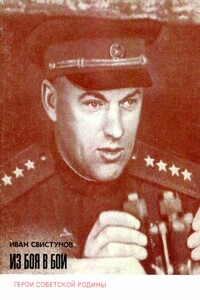А когда последний патрон был выпущен и свирепая пуля догнала перебегавшего через улицу моджахеда, — отбросил Горан свой парабеллум, осмотрел комнату, и взгляд его остановился на неведомо как очутившейся здесь приличных размеров статуе американской свободы.
— Стой! — сказал Горан. — Сбросим на прощание эту хреновину им на голову. А то они там кричат, что им свободы мало…
И тяжёлый, отвратительный идол с пустыми белыми глазами из кости полетел вниз, всё-таки придавив одного моджахеда насмерть, и загрохотал над крыльцом, разбившись окончательно вдребезги.
…Это всё было давно-давно. А неделю назад я опять побывал в Сараево уже как мирный турист.
Дом этот я обнаружил на прежнем месте — он никуда не делся. Никакого офиса здесь давно нет. Тут теперь ночной клуб и бордель. И диван, обитый красной кожей, на котором умерла Катя, как это ни странно, стоит до сих пор. На этом диване похотливые и потные мужики жадно щупают раскрашенных, пухлых девок.
И когда я увидел этот диван, когда я увидел его опять, то я остановился на месте, и мне ясно, отчётливо вспомнились жёлтый магометанский медальон-полумесяц, поблескивающий ненавистью, звон разбитого стекла и счастливая улыбка мёртвой Кати.
У неё была светловолосая детская головка. И целоваться она умела так, как больше, кроме неё, никто не умел. Никто.
Миссиссага, 2004 г.