Дочь - [40]
Я уткнулся носом в ее шею. Я вдыхал и вдыхал ее запах, потом прошептал:
— Это чтобы лучше тебя нюхать. Но я не могу нанюхаться. Кто ты теперь, один из семи козликов, бабушка или эта чудовищная Красная Шапочка?
Она снова повалила меня на спину.
— Никто не знает, никто не знает, что меня зовут Румпельштильцхен… [26]
На следующее утро я отвез ее в аэропорт. Она снова уезжала далеко, и в этом было что-то комическое — или, может быть, грустное. Невозможно было представить себе, что она действительно там живет. Что ради того, чтобы оставить меня в одиночестве, ей надо лететь одиннадцать часов.
Но ничего не поделаешь. В Лос-Анджелесе Сабину ждала работа. Я и сам способствовал этому, когда попросил ее сделать фотографию Сэма для обложки книги.
Мне было неприятно, что она уезжает, но не потому, что я не доверял себе или ей. Если после стольких лет разлуки мы смогли вернуться к тем же отношениям, тому же покою, той же строптивой, иногда болезненной веселости, то географическое расстояние не имело большого значения.
Просто я знал, что уже никогда больше не буду чувствовать себя уютно в той жизни, которую вел. Что не хочу больше одиночества, рационально обставленной квартиры в Баутенфелдерте[27], размеренной холостяцкой жизни. И еще: холодный цинизм, хаос беспорядочных связей и сопровождающие их игры, в которых пытаешься выдать себя не за то, что ты есть, стали мне противны.
За один вечер со мной сделалось что-то немыслимое: я хотел вернуть этот новый старый мир, мир Сабины. Навсегда. В будущее я смотрел с оптимизмом. Моя потребность в неопределенности полностью исчезла — как будто настало время и я наконец повзврослел. Бесцельность прежней жизни вдруг показалась мне пустой тратой времени. Надо было спешить.
Сабина мало говорила в последние часы, в аэропорту она шла за мной, бледная, напряженная и неуверенная, как будто никогда еще не летала на самолете.
Мои ладони стали влажными, когда я обнял ее, чтобы поцеловать на прощанье. Я рассмеялся дурацким смехом, полным неуместной самоуверенности, а она прошла внутрь, мимо будочки паспортного контроля.
Она помахала оттуда еще раз, и я ощутил страх и чувство вины, как будто отправлял в далекое путешествие маленького ребенка. Я энергично помахал в ответ, и она ушла в жестокий, большой мир.
Очень давно я не ощущал такого одиночества, когда кто-то уезжал.
В первый месяц мы перезванивались по два раза в день. Первый раз — днем, когда она просыпалась, второй раз — поздно вечером, когда у нее наступал полдень. Она была занята, и я тоже. Надо было обрабатывать франкфуртские контакты: писать письма, звонить, заключать договоры. Книгой Норы заинтересовались в трех странах, и надо было все это организовать.
Сэм уверял меня, что кончает книгу. Мы с ним разговаривали еженедельно. В принципе я не должен был никому отчитываться, но все же для порядка известил всех о моих планах, чтобы заранее оправдать будущие поездки.
Во второй половине ноября я предложил Сэму, что приеду на Рождество в Лос-Анджелес. Это предложение соответствовало моим собственным интересам, чего я ему, конечно, не сообщил. Сабина умоляла меня ничего не говорить Сэму о нашей связи.
Сэм нашел эту мысль превосходной.
— У меня отличное помещение для гостей, — гремел он, — никаких проблем, прекрасно! И заметь, мне придется позаботиться о том, чтобы книга была готова вовремя. Так что твой приезд обозначит для меня deadline![28]
Я сказал, что предпочитаю гостиницу, что я всегда предпочитаю гостиницу, что иначе я бы сошел с ума, что надеюсь, он это поймет, и, кроме того, он должен спокойно дописывать книгу… Сэм расстроился, но не стал меня уговаривать.
21 декабря 1998 года, в двенадцать часов дня, я вылетел в Лос-Анджелес. Я сильно волновался, но одновременно был весел, уверен в себе и почти доволен. Мысль о том, что мне предстоит одиннадцатичасовой полет, не пугала меня. Я уже представлял себе, как Сабина встретит меня, и почти чувствовал прикосновение ее хрупкого, нежного тела.
Я представлял себе, как она бранится из-за моих неверных решений: дурацкие джинсы, странная сумка, неправильно заказанная машина. Я вспомнил: она всегда начинала говорить о таких вещах, стоило мне проявить чрезмерную сентиментальность. Даже во время нашей единственной совместной ночи после пятнадцати лет разлуки она несколько раз портила самые нежные моменты трезвыми замечаниями («извини за крики на идише», к примеру).
На самом деле, мне это нравилось. Я не обижался, если она надо мной подтрунивала. Мне даже нравилось попадать в такие ситуации, разыгрывая взрывы лирических чувств. Наверное, чтобы забыть о том, как груб я был в юности.
— Где ты оставишь свои вещи, в гостинице или у меня? — по-деловому спросила она.
Сабина выделялась в толпе, как горящий костер, ее волосы сияли ярче, чем когда-либо, лицо было белым, гладким и светилось. Я неловко коснулся губами ее щеки, она ответила быстрым поцелуем и погладила меня по руке, которой я толкал тележку с багажом.
— Сэм еще вчера спрашивал, действительно ли ты хочешь жить в гостинице. Я сделала вид, что не поняла. Он ведет себя в последнее время странно.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
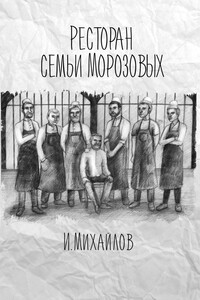
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.