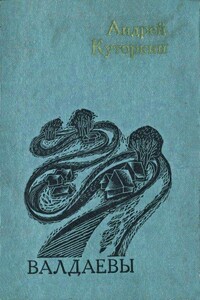— Хоп, ладно, — кивнул Глеб. — Не волнуйся, присмотримся сообща.
«Еще одна проблема на стройке — Шемякин», — подумал он.
Снова и снова мысленно возвращаясь к селю, Глеб ни разу не вспомнил при этом Наталью Петровну Морозову и тот их разговор в ресторане, когда он рассказывал ей о селях, отводящих дамбах и прочих мерах борьбы с камнегрязевыми потоками. А вот теперь вдруг вспомнил… Ашот — Шемякин — сель — ресторанный разговор — Морозова… Ассоциации!.. Умудренный опытом азиат — черт бы побрал его совсем! — увидел красивую женщину, распустил павлиний хвост, накликал беду. Накликал, точно! А сель тут как тут: застал их неподготовленными, нанес удар по промплощадке…
Давно не думал Глеб о Морозовой — с самого отъезда из Ленинграда, пожалуй. Забыл, вычеркнул из памяти, как и она его, очевидно… И вот вспомнил — в самое, казалось бы, неподходящее время, в парткоме, думая о Шемякине… И очень четко представил ее, красивую, самоуверенную, спокойную. Как идет она по коридору института, разговаривая с Яновским. И вдруг остро пожалел, что не было ее тогда здесь — среди хаоса, разрушений, промокших и усталых людей: как бы она вела себя той ночью?.. А потом, удивившись самому себе, пожалел и о том, что нет ее здесь сейчас…
Матвей Васильевич Шемякин был, несомненно, незаурядным человеком. Правда, говорили про него много неприятного: и в подхалимстве замечен, и с подчиненными груб и заносчив, администрировать любит, и приказы отдает порой, свидетельствующие о незнании строительного дела. Но все — и осуждающие, и относящиеся равнодушно — отмечали его организаторские способности. Шемякин, легко сводя, как говорят, небо и землю, мог сделать все, что угодно, достать все, что угодно, стать полезным и необходимым кому угодно. Узбеки про таких говорят: «Он, если захочет, и солнце с неба снимет».
Матвей Васильевич выглядел гораздо моложе своих пятидесяти двух. Никто больше сорока ему не давал: среднего роста, подвижный, подтянутый, ни одного килограмма жира, с открытым, всегда краснощеким лицом, на котором менялись поочередно две маски — кроткой и всенепременнейшей услужливости, готовности к «чего-с изволите» и то же выражение, те же черты милого лица, но как бы затвердевшие: упрямо сжатые узкие губы, заострившийся и выпяченный подбородок, нетерпеливо подрыгивающая и взлетающая вверх рыжеватая бровь и — главное — бутылочного цвета глаза, которые он без надобности прятал, щурил, опускал долу, а при надобности гневно выпячивал, глядел начальственно, не моргая. Шемякин был абсолютно здоров. В его возрасте он не знал даже, что такое зубная боль, у него вообще никогда ничего не болело. Матвей Васильевич мог не спать двое суток и пройти, если понадобится, километров пятьдесят, и выпить, если дело потребует, литр водки, хотя водку и вообще пьянку терпеть не мог; пешим маршрутам предпочитал ГАЗ-69, вообще в душе был сибаритом — любил покейфовать после сытного и вкусного обеда, полежать где-нибудь в укромном, прохладном месте с кипой газет (он перечитывал от корки до корки все газеты, что попадались ему под руку), вдали от глаз человеческих, наедине с самим собой.
С тех пор как лет десять назад от него ушла жена, Шемякин оставался одиноким и ничуть не страдал от этого: поговаривали, скуповат, себе самому в солнечный день и солнца пожалеет. Хотя, если требовалось показать, мог быть и щедрым, расточительным. Одним словом, натура сложная и противоречивая…
А еще была у Матвея Васильевича большая и безуспешно маскируемая лысина — чистая, румяная, как и щеки. Лысина не оставляла сомнений в его преклонном возрасте. Чего только не делал он, чего не предпринимал! Какими лекарствами не пользовался, к каким средствам не прибегал! Ничего не помогало! Выращенная ценой усилий и времени редкая косица поднималась на затылок и, уложенная плотной спиралькой, едва прикрывала темя — вот все, что он, разуверившись в помощи со стороны, мог придумать сам, чтобы хоть как-то скрыть этот недостаток. Лысина казалась ему главным его недостатком. Это был комплекс. Шемякин инстинктивно чурался людей, которых природа наделила пышными шевелюрами. Стоило подобному «волосатику» войти в кабинет к Шемякину, Матвей Васильевич тут же проникался молчаливой и стойкой неприязнью к нему. Ну а если встречи повторялись, если волею аллаха человек этот попадал под начальство Шемякина, неприязнь переходила всякие границы, хотя никто и не догадывался о ее истинных причинах: бури происходили в душе Матвея Васильевича и никак не сказывались на его корректно-доброжелательной улыбке.
Было бы, наверное, спокойнее всем, если бы сидел Шемякин в той самой бухарской школе, куда забросила его судьба. Но ведь не сиделось Матвею Васильевичу. И сорвал его с насиженных мест теплый и честолюбивый ветер, который шепчет, говорят, людям об их великих предначертаниях и благоприятном для них расположении планет на этот год.
Шемякин, как он писал в автобиографии, участвовал в Великой Отечественной войне. Участие это не привело его ни к чинам, ни к орденам. Победу Матвей Васильевич отпраздновал в звании лейтенанта, в должности командира комендантского взвода отдельного батальона связи. На его груди сиротливо мотались медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», которые обычно заменялись неопределенного цвета планками, неизвестно что и обозначающими.