Девочка с камнем - [17]
Я поднялся и тоже зашагал рядом.
— Как же её зовут? — спросил я, поглаживая собачку по спине.
— А зовут её Жу-лик, — протяжно сказал пастух.
— Как же можно такую собаку Жуликом называть?
Пастух остановился и спустил собачку на землю. Он был сам изумлён.
— Жулик, Жулик… — бормотал он, точно в первый раз слышал это имя. Потом нахмурился и сказал: — Меня самого не лучше звали. Клички-то у нас старые.
Он сердито щёлкнул кнутом и, забыв про меня, задумался, опустив глаза к земле. И кнут его, улёгшись, точно змея, на траве, как бы тоже задумался.
А за рожью, медленно тлея, догорела заря, зазеленело небо, ласковый сумрак принёс густой травянистый запах, и потом сразу, как стена, встала и затихла ночь.
1936
Село на тракте
Это было в начале двадцатого года, в большом пригородном селе, стоявшем на Чистопольском тракте.
Село было степное, богатое и мало чем отличалось от других, стоявших на этом же тракте богатых и просторных сёл.
Одним только отличалось оно: в каждом из сёл был свой деревенский дурачок, и всегда лишь один, а в этом их было два — Пека и Федя Слюнтяй.
В страшной вражде и зависти друг к другу жили они, и если Пека входил в село в одни ворота, то Федя уходил из села в другие.
Феде было лет под сорок. Он был хитёр, вынослив и даже в лютые морозы ходил в одной рубахе, босиком.
Пеке же хотя лет было и немного — всего восемнадцать, но, как и Федя Слюнтяй, носил он на теле вериги, а на голове высокую шапку и, в отличие от Феди, был в самом деле дурачок.
Но в эти дни мало кому было дела до Феди и Пеки.
С востока, с запада и с юга село было окружено врагами. Убегая степью на Сибирь, остатки белых банд подняли кулаков на восстание. И большое село Карачи, и Ключи и Шамша, лежавшая ближе других, были уже заняты ими.
Враг был жесток — двадцать два человека погибли уже в Карачах, а в Ключах и в Шамше замученным не было счёту. И только с севера, по Чистопольскому тракту, заметённому снегом, могла прийти помощь — из Казани ждали красных.
Три дня назад ночью в школе, которую на это время превратили в штаб, секретарь волостного комитета сказал:
— Дальше бандитов пускать нельзя. Погибель и муку должны мы принять на себя, но врага задержать. Дня через два подоспеют наши. И спасение наше в том, чтобы прервать у врага всякую связь. Надо село оцепить: выставить караулы у околиц, послать патрули и дозоры. Пусть улицы будут пусты, пусть в избах не зажигают огней и пусть не выйдет из села ни один человек, а пуще всего не войдет. Кулачья тут много, а нас, коммунистов, мало. Но есть одна надежда, — сказал секретарь, обратив свой усталый взгляд направо, где с краю стола сидела молодая учительница. — Есть у нас одна надежда — на школу. Ученики в ней из дальних деревень, чужие, батрацкие, и есть среди них ребята не маленькие, вместе с учительницей вступали в комсомол. Они пойдут за ней. Я это знаю.
— Пойдут, — сказала твёрдо учительница. — Хватит ли только оружия? Нас, школьников, семьдесят два.
— Оружия тоже мало, — ответил ей секретарь, — а патронов и вовсе нет. Есть только холостые ружья, что остались нам от всевобуча. Но ведь кулачьё об этом не знает. Они не посмеют выступить, пока будут думать, что мы сильны. И холостое ружьё выстрелить может, если ты настоящий коммунист.
И три дня, три мутные зимние ночи школьники несли караул.
Они стояли на часах у четырёх околиц, шагали по улицам, сторожили на колокольне, откуда видна была только степь, погруженная в холодную мглу, — ни одного огонька не зажигали в селе.
Но и по утрам пусто было вокруг.
Только раз в день, кутаясь в шубы, выходили к замёрзшим колодцам просвирни. И тогда со страхом смотрели они на проходившие мимо патрули.
Это были всё школьники, дети. Одежда их была худа, обувь разбита. Ветер дул им в лицо, сковывая губы. Но взгляды их были непреклонны, и тяжёлые ружья висели у них за спиной. А рядом всегда шагала учительница. И платок её, связанный из верблюжьей шерсти, и ресницы её покрывались на морозе тонким льдом.
На третий день, когда красных всё ещё не было, секретарь комитета сказал:
— Враги уже рядом. И село нам оставить нельзя, и уйти бы вовремя надо — не губить зря людей. Знать бы, когда они выступят из Шамши, ушли бы мы тайно на рассвете. Надо выслать разведку в Шамшу.
— Я пойду, — сказала учительница.
Секретарь покачал головой:
— Тебя сейчас же узнают и убьют.
— Тогда я пойду, — сказал мальчик, стоявший на часах у дверей.
— Нет, я, — перебил его другой.
А третий не сказал ни слова. Он сидел у стены, закутанный в чёрную шинель, и ружьё его стояло подле.
Он часто молчал, хотя был ласков со всеми. И звали его Рамзэ.
Это был татарский мальчик, которого учительница любила больше других.
Она вышла на крыльцо и тут постояла немного.
«Кого же, в самом деле, послать на это опасное дело?»
Безлюдно было вокруг. Степной чистопольский ветер плыл высоко над селом. Над крышами воздух блестел, и на дороге лежало много снегу. Никто теперь по ней не ездил.
Учительница всё стояла в раздумье. Вдруг близко услышала она странный звук, похожий на тихий вопль или на рыданье и смех.
Она подняла голову.
Перед ней, у самого крыльца, слегка притопывая большими лаптями, стоял Пека-дурак. Губы его были раскрыты, а бессмысленный взгляд подёрнут от холода влагой. Брызгая слюной, как ребёнок, он протянул к ней руку и сказал:

Повесть «Дикая собака Динго» давно вошла в золотой фонд советской детской литературы. Это лирическое, полное душевной теплоты и света произведение о товариществе и дружбе, о нравственном взрослении подростков.
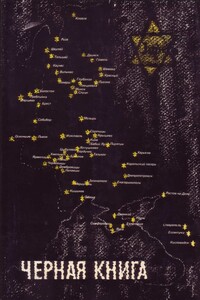
”В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно назвали ”Черной Книгой”. Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета ”Конногвардеец”), В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первые послевоенные годы Р. Фраерманом написана (совместно с П. Зайкиным) историко-биографическая повесть «Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца» (1946-48), где тщательности архивных изысканий не противоречит такая устойчивая черта творческого почерка писателя, как использование элементов приключенческого жанра.
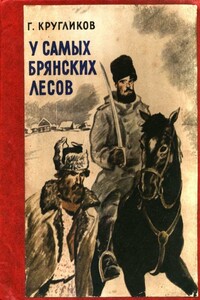
Документальная повесть о жизни семьи лесника в дореволюционной России.Издание второеЗа плечами у Григория Федоровича Кругликова, старого рабочего, долгая трудовая жизнь. Немало ему пришлось на своем веку и поработать, и повоевать. В этой книге он рассказывает о дружной и работящей семье лесника, в которой прошло его далекое детство.

Наконец-то фламинго Фифи и её семья отправляются в путешествие! Но вот беда: по пути в голубую лагуну птичка потерялась и поранила крылышко. Что же ей теперь делать? К счастью, фламинго познакомилась с юной балериной Дарси. Оказывается, танцевать балет очень не просто, а тренировки делают балерин по-настоящему сильными. Может быть, усердные занятия балетом помогут Фифи укрепить крылышко и она вернётся к семье? Получится ли у фламинго отыскать родных? А главное, исполнит ли Фифи свою мечту стать настоящей балериной?
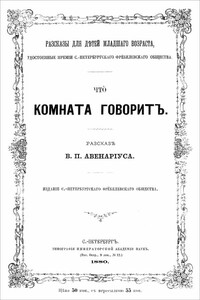
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
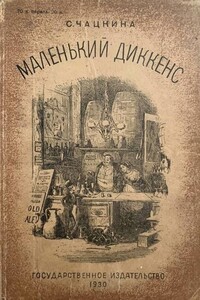
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поллиана, любимая героиня множества девчонок, подросла. И, как всякая молодая девушка, влюбилась.Сколько всего придётся пережить юному сердцу! Но даже в самые трудные моменты Поллиана не забудет свою знаменитую «игру в радость»!

Эта прекрасная книга поэта-фронтовика Якова Лазаревича Акима состоит из трех разделов. В первом разделе – лучшие стихи для детей. Второй раздел – сказки в стихах «Песенка в лесу» и «Девочка и лев», по которым были созданы замечательные мультфильмы. Третий раздел – это необыкновенно увлекательная сказка «Учитель Так-Так и его разноцветная школа».Открывается книга предисловием критика Владимира Александрова.

Ты слышишь весёлый и заливистый смех? Он звенит, словно тысяча серебряных колокольчиков. Кто хоть раз услышал этот смех, не забудет его никогда! Так смеётся замечательный мальчишка по имени Тим Талер. Смех — его главное сокровище.Но однажды Тим позабыл об этом и совершил ужасную сделку.Перевод с немецкого А. Исаевой.

В Волшебной школе Карандаша и Самоделкина начались каникулы. Маленькие волшебники снова собираются в путешествие, но на этот раз они отправляются в Египет. Друзей ждут опасные приключения и нелёгкие испытания. Юные читатели вместе с героями книги встретятся с кораблём-призраком, настоящими морскими хищниками, смогут пройти самые запутанные лабиринты и раскрыть секреты пирамиды Тутанхамона.
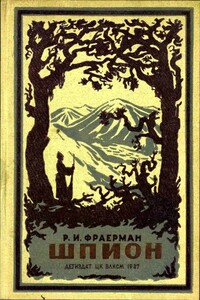
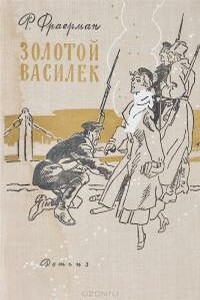

![Девять возвращений [Повести и рассказы]](/storage/book-covers/ed/ed7af831d7446cc273c19395f0b07a748a40724c.jpg)