Делай, что хочешь - [37]
Не простая, надо сказать, задача: вытащить из тетки, чего она хочет для себя. А она приручила тетку играючи. Слышу, советуются. Тетка признается, что хотела бы остаться с малышами, пока что, но одной тяжеловато стало, хорошо бы помощницу. Но не получается. Мамочки платят сколько могут, по чуть-чуть, а с помощницей как же? Она вдруг и говорит: «Это я виновата, надо было раньше сообразить». И взялась добиваться от фабричного начальства, чтобы оно помогало нянькам, которые не только работницам нужны, но и фабрикам. Она же всего добивалась, за что бралась.
Оказалось, венчаться она не намерена. Я знал, что они с доктором атеисты, и сам был не больно-то верующий, но тут как-то не задумывался про убеждения: если такой порядок… ну, считал, и мы общим порядком. А она так не считала. Я убеждения уважал, но испугался: «А если нас разлучат по приговору?» Мы сидели все вчетвером и обсуждали. Доктор за столом, тетка в уголке в кресле, все пыталась первое время в уголок забиться, а мы рядышком на черном казенном диване, она мне голову на плечо положила и смеется: «Пусть попробуют». А доктор говорит: «Конституция провозглашает свободу совести. Обязательность церковного брака входит в противоречие с конституцией. Подадим встречный иск и выиграем процесс. И непременно еще один – против поражения в правах внебрачных детей. У нас не диктатура, а свободная республика».
Я удивился, что свою жизнь можно, оказывается, соотносить с конституцией и настаивать на личных убеждениях даже против государства. Сам-то я, если выговаривать словами, от государства всегда уклонялся, а самое последнее убеждение, за которое держался бы в крайности, – это чтобы гадостей не делать. А все остальное, думал, – ладно уж.
У меня что-то такое в уме промелькнуло, а сказалось неожиданно совсем другое: «Но ведь с твоим первым мужем ты же…» Она смотрит на меня удивленно: «Конечно, нет, говорит, у нас был такой же свободный союз, как с тобой». Свободный союз. Чувствую, обиделась. «Тем более при диктатуре, когда приходилось скрывать все, что только можно было скрыть» Меня прямо горе охватило. Ведь получилось, будто я ей не доверяю. Она так головой встряхнула, словно отогнала какие-то мысли, и опять улыбнулась: «Это мы еще плохо друг друга знаем. Ничего, познакомимся. Подружимся!»
Потом, вспоминая эти дни, пересматривая, увидел, как ласково и настойчиво она со мной дружилась…
Вместе ходили по городу. Она говорила, что вдвоем стало лучше видно. И порассказать могли: она по зодчеству, я по строительству. Или вот еще – гитара. «И меня, говорит, научи». А я как-то само собой умел и не помнил, как выучился. «Вы покажите, просит, я тоже само собой разберусь». Ей же все давалось! Заиграла как по волшебству, еще и переложила для гитары свои любимые песни.
О ее первом муже я все правильно понимал. Не сомневался, что достойнейший был человек. Уважать его память – так всей душой и с готовностью. Она иногда рассказывала чуть-чуть. Но я видел, что тут больное место, страшно вспоминать. Понимал, каково это – найти любимого человека в яме с расстрелянными. Но почувствовать не позволял себе. Чтобы почувствовать, мне надо было бы ее представить в этой яме. Это не мог. Это уж слишком.
Она была такая светящаяся, серебряная, от природы задуманная вся целиком из чистого вещества радости. А тут такое, что не забудешь и не примиришься.
Работы ее мужа почти все погибли. Когда его забирали, то разгромили мастерскую. Был приказ нагонять страху. Осталась только одна картина и папка с рисунками, которых в мастерской на ту минуту не оказалось. Эту папку мне доктор показывал. Рисунки – жуткие сказки, ночной кошмар. Река, запруженная зелеными трупами. Пиршество людоедов, свежующих иссохшего человека. Сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными. Огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети. Я вполне понимал, о чем это. О страхе, арестах, о терроре, о нашей крепости. Немножко» по-детски… Да ведь ему и было двадцать лет.
Но вздрогнул от последнего рисунка – ее портрет. Акварельный. Измятый, надорванный. И отпечаток сапога.
Мы были вдвоем. Солнце в комнате. Закат. Она подошла сзади, обняла меня и смотрит на рисунок из-за плеча. И говорит: «Что ты видишь?» – «Тебя», – отвечаю, – «Ты думаешь, это я?» – «А кто же? Я тебя узнаю. Разве не ты?» – «Написано с меня, но не знаю, кто это. Расскажи». Странно, сам спросил и сам стал рассказывать.
Улица. Высокие дома. Впереди перекресток. Но нечетко. Как, например, от солнца глаза слезятся. Или просто не докончено. Город такой непонятный. Можно узнать Корабельный проспект и Платановый бульвар, но ведь на самом деле они не пересекаются. Совсем раннее утро. Бьют косые лучи, лежат длинные тени. И женщина в черном платье, очень коротком, разве что до колен. Почему-то босиком. Шла или бежала, но приостановилась и вот сейчас оглянется. Рука, отнесенная слегка назад, висок, линия щеки, мимолетное усилие шеи в сторону поворота. Если все вокруг словно расплывается, то женская фигура написана очень осязательно, поэтому нельзя ошибиться. Она оборачивается. Может быть, кто-то окликнул. Но никого нет. Кроме нас. Значит, она оборачивается к нам. Правда же?

Каким образом у детей позднесоветских поколений появлялось понимание, в каком мире они живут? Реальный мир и пропагандистское «инобытие» – как они соотносились в сознании ребенка? Как родители внушали детям, что говорить и думать опасно, что «от нас ничего не зависит»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания, но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.
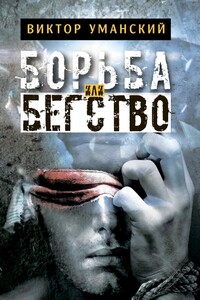
Что вы сделаете, если здоровенный хулиган даст вам пинка или плюнет в лицо? Броситесь в драку, рискуя быть покалеченным, стерпите обиду или выкинете что-то куда более неожиданное? Главному герою, одаренному подростку из интеллигентной семьи, пришлось ответить на эти вопросы самостоятельно. Уходя от традиционных моральных принципов, он не представляет, какой отпечаток это наложит на его взросление и отношения с женщинами.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.