Д. В. Григорович (творческий путь) - [4]
______________
* "Слово", сб. И.М., 1914, с. 203.
Неудача первого романа не обескуражила писателя. Он снова садится за большое произведение. Учитывая провал "Проселочных дорог", Григорович напряженно работал над новой книгой, по нескольку раз переделывая написанное. В романе "Рыбаки" (1853) он сделал попытку широкого изображения живых сил нации.
В предисловии к немецкому изданию "Рыбаков" Герцен усматривал в самой направленности романа ("горячее сочувствие к крестьянину") симптом того, что русское общество начинает воспринимать народ как важную социальную силу, которой принадлежит будущее. На примере произведения Григоровича Герцен указывал на преодоление русской литературой былой односторонности гоголевской школы, которая, выявляя бесчеловечные порядки николаевской России, не смогла найти положительного героя. "Рыбаки" для Герцена были первой вехой на пути становления жизнеутверждающей литературы.
Крепостное право на этот раз остается вне поля зрения автора. Его персонажи - свободные люди, пользующиеся трудами своих рук и не зависящие от барского каприза. Но и в таком "привилегированном" положении крестьянин ведет повседневную жестокую борьбу за существование.
К своему герою Григорович испытывает несколько двойственное чувство. Глеб несомненно импонирует ему, но писатель понимает, что рутина и косность патриархальных порядков, за которые крепко держится старый рыбак, уже недолговечны. Он видел первые признаки разложения консервативного быта. Как лазутчик капитализма проникает в деревню "темный делец", кабатчик Герасим, захватывающий в свои цепкие руки последнее достояние мужика.
Не прошел Григорович и мимо появления новой общественной силы пролетариата. Писатель-реалист не исказил жизненной правды, показав беспросветную тяжесть труда "фабричных". "Весь нижний этаж, состоявший из четырех сквозных срубов, был занят фабрикою. Во всех промежутках этой деревянной паутины виднелись быстро вращавшиеся колеса, которыми управляли мальчики и девочки, покрытые струями пота. Они должны были задыхаться. Мудреного нет: самый дюжий работник, проживший год в этой духоте, начинал хилеть и сохнуть... Народ теснился, как огурцы в бочке; решительно не было возможности ткнуть пальцем без того, чтобы не встретить бруса, протянутой основы или человеческого затылка"*.
______________
* Д.В.Григорович. Полн. собр. соч., т. V, с. 374 - 375.
Однако доброго чувства к рабочим у Григоровича не было. Образом "хищного" Захара иллюстрируется в романе авторский тезис, согласно которому "упадку нравственности поселянина нередко способствует жизнь фабричная"*.
______________
* Д.В.Григорович. Полн. собр. соч., т. V, с. 292.
"Пролетные головушки" за свои проступки несут в романе наказание. Кротким героям их смирение и покорность ударам судьбы в конце концов обеспечивают благополучие.
Важно отметить, что отношение писателя к народной кротости менялось уже в ходе работы над "Рыбаками", и в следующем романе - "Переселенцы" Григорович изображает тип смиренного мужика без всякого сочувствия, подчеркивая, что выпадающие на его долю многочисленные беды - неизбежный плод долготерпения.
Неразрывно связаны в "Рыбаках" люди и природа. На всем протяжении повествования ландшафт углубляет и дополняет смысл происходящего. Пейзажные зарисовки в романе четкостью напоминают акварельные рисунки. Достигнуть осязаемой конкретности в пейзаже Григоровичу несомненно помогло его увлечение рисованием. В архиве писателя сохранились рисунки, на которых воспроизведены места, описанные в "Рыбаках": река, окаймленная кустами, уходящие вдаль поля и перелески.
Вместе с пейзажем в повествовательную ткань романа органически входят народные песни, поговорки, пословицы, воссоздающие атмосферу народных представлений о человеке и обществе.
"Рыбаки" были положительно оценены критикой. Наиболее полно и объективно рассмотрел роман Григоровича Герцен, определив его как значительный этап в развитии русской литературы.
Третий свой роман "Переселенцы" (1855 - 1856) Григорович снова посвящает изображению народной жизни. "Рыбаки" назывались романом "из простонародного быта", "Переселенцы" выходят с подзаголовком "роман из народного быта". Это определение свидетельствовало о коренной перемене в отношении к мужику не столько писателя, сколько всего общества в целом, ибо в России в связи со смертью Николая I и ожидаемой отменой крепостного права все взоры были устремлены на народ.
В "Переселенцах" отразились мысли писателя о возможностях улучшения жизни крестьян путем гуманного отношения к ним дворян. Помещица Белицына, узнав о гибельных последствиях переселения крестьянского семейства на новые земли, обличает нерадивость господ, не думающих о благе своих людей.
Но, призывая дворянство следовать примеру Белицыной, Григорович не смог показать практических результатов ее деятельности. Она свелась лишь к тому, что "заметно улучшилось" хозяйство самих Белицыных.
Чернышевский, доброжелательно встретивший "Переселенцев", указал вместе с тем на сомнительность разрешения коренных противоречий между мужиком и помещиком путем филантропических паллиативов. Прибегая к иносказанию, так как по цензурным условиям критик не мог открыто говорить о крепостном праве, он отмечал, что "эта идея может подать повод к спорам"*.
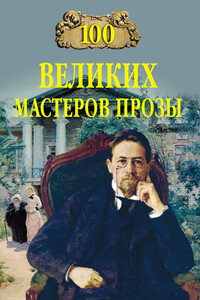
Основной массив имен знаменитых писателей дали XIX и XX столетия, причем примерно треть прозаиков из этого числа – русские. Почти все большие писатели XIX века, европейские и русские, считали своим священным долгом обличать несправедливость социального строя и вступаться за обездоленных. Гоголь, Тургенев, Писемский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Диккенс, Золя создали целую библиотеку о страданиях и горестях народных. Именно в художественной литературе в конце XIX века возникли и первые сомнения в том, что человека и общество можно исправить и осчастливить с помощью всемогущей науки.
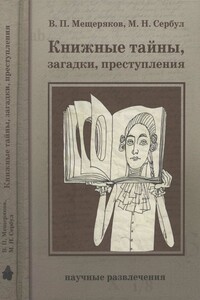
Разве можно представить нашу жизнь без книг? Они сопровождают людей повсюду уже несколько тысяч лет. С ними связано множество любопытнейших историй: ловкого вора выдала сова, жившая в библиотеке; мальчик написал стихи за придуманного поэта; азартный коллекционер сжег редкую книгу; знаменитый писатель выдал свои сочинения за чужие; авантюристы дописали Гоголя и Мольера; автор «Робинзона Крузо» взял «интервью» у преступника, а Проспер Мериме одурачил Пушкина. Одни «книжные» истории похожи на настоящие детективы, другие вызывают улыбку, но все они оставили яркий след в истории.
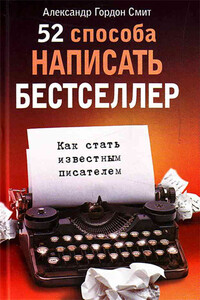
Книга известного издателя Великобритании Александра Гордона Смита включает эффективные идеи и полезные советы, которые помогут вам стать востребованным писателем. Увлекательное и вдохновляющее изложение автора дает возможность понять, в каком направлении двигаться дальше, если вы только вышли на тернистый путь написания книги или остановились на перепутье. Книга предоставит вам шанс создать произведение, основываясь на собственных эмоциях и мыслях, избегая штампов и банальностей. Рекомендации автора, основанные на его личном опыте писателя, редактора и издателя, помогут вам создать свое художественное произведение и написать настоящий бестселлер.
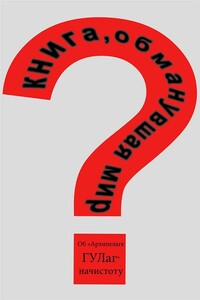
Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.
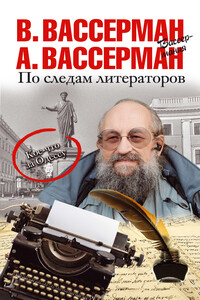
Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.
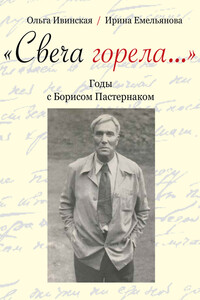
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
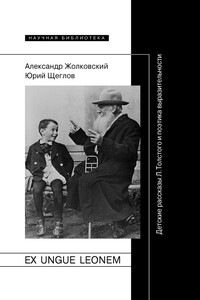
В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.
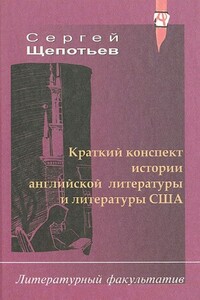
Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.