Д. В. Григорович (творческий путь) - [3]
Помимо социальной остроты, повесть Григоровича имела и немалое художественное значение. "Антон Горемыка" в известной мере открывал новые литературные горизонты, представляя собой зачаточную форму эпического романа из народной жизни, который впоследствии будет плодотворно освоен самим Григоровичем и другими художниками.
Современниками "Антон Горемыка" был встречен как значительное общественное событие. "Ни одна русская повесть, - писал Белинский, - не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину..."*
______________
* В.Г.Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 445.
Многие русские писатели (Тургенев, Салтыков-Щедрин, Герцен, Л.Толстой) называли "Антона Горемыку" в числе произведений, благотворно повлиявших на развитие русского освободительного движения. Достоевский в "Подростке" устами Версилова говорит, что "Антон Горемыка" и "Полинька Сакс" - две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение..." Версилов прибавлял, "что из-за "Антона Горемыки", может, и в деревню тогда приехал, - и прибавлял чрезвычайно серьезно"*.
______________
* Ф.М.Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. XIII. Л., "Наука", 1975, с. 10.
Присутствовавший при первом чтении "Антона Горемыки" двоюродный брат И.И.Панаева рассказывал, как растрогала повесть Некрасова, Панаева и его жену: "Авдотья Яковлевна плакала, Панаев и Некрасов замерли, я ушел в отдаленный кабинет Панаева и, забравшись в угол дивана, навзрыд ревел". Панаев, заметив состояние подростка, "внушительно сказал: таких слез не стыдись и помни... что то, что прочел Григорович, будет иметь громадное значение не только в направлении нашей литературы, но благотворно повлияет и на судьбу всего русского народа"*.
______________
* ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 121, л. 39, об.
Панаев предсказал верно. От "Антона Горемыки" тянутся нити к творчеству писателей последующих поколений. На преемственность "Жития одной бабы" с "рассказами из народного быта" указал Н.С.Лесков; как на классический пример загубленной крестьянской жизни ссылается на судьбу Антона в рассказе "Волк" Н.Г.Гарин-Михайловский.
"По достоинству" оценил произведение Григоровича и особый Комитет по делам печати, зачислив "Антона Горемыку" в разряд "наиболее опасных произведений года" наряду со статьями Белинского и Герцена.
В сороковые годы окончательно формируется мировоззрение Григоровича. Во многом оно базируется на идеях, выдвинутых Белинским и писателями "натуральной школы". Этим идеям Григорович остался верен и в дальнейшем.
1848 год для России знаменовал начало "мрачного семилетья". Николай I, напуганный французской революцией, усилил давление на общественную мысль до последнего предела. Вводится в действие новый цензурный устав, заслуживший название "чугунного". Всякое проявление "вольного духа" нещадно каралось. Был выслан Салтыков-Щедрин, эмигрировал Герцен, подвергся разгрому кружок Петрашевского, только смерть спасла Белинского от каторги.
В таких условиях нельзя было и пытаться затрагивать крепостное право. Григорович создает ряд повестей и рассказов о бесцветных, ничтожных людях, подражателях "большого света" ("Похождения Накатова, или Недолгое богатство", "Свистулькин" и др.), и, хотя в них дает себя знать сатирическое начало, обличительной силы первых своих произведений писатель не достигает.
Он обращался к деревенской теме, но не имел возможности останавливаться на мрачных сторонах крестьянского быта. Повесть "Четыре времени года" (1849) сам автор определяет как "опыт простонародной русской, сермяжной идиллии"*. Но Григоровичу по-прежнему сопутствует репутация "неблагонадежного". "Цензурные дела так плохи... - сообщал он в 1850 году, - как никогда еще не были... Пока не остынет негодование г-д цензоров, подавать мои повести не совсем безопасно..."**
______________
* "Русская мысль", 1902, № 12, с. 166.
** Рукописный отдел ГБЛ, ф. 132, разд. II, оп. 9, ед. хр. 23, л. 12.
Однако не писать Григорович уже не мог. "...Кто литературы отведал, читаем мы в его письме девяностых годов, - тому она всасывается в кровь и становится насущною потребностью в жизни; меня, по крайней мере, она одна, да еще люди к ней причастные, только и интересуют"*.
______________
* "Письма русских писателей к А.С.Суворину". Л. 1927, с. 36.
К началу пятидесятых годов писателями-реалистами было создано множество произведений малого жанра. Назревает потребность в создании широких полотен, обобщенно изображающих действительность. Не случайно таким успехом пользовались романы Гончарова и Герцена.
"Давно хотел испробовать свои силы в работе большего размера" и Григорович. В течение полутора лет трудится он над созданием романа "Проселочные дороги", напечатанного в 1852 году.
В основе романа лежит фабула, разработанная Гоголем в "Мертвых душах", - путешествие по провинциальной помещичьей России. Легко ощутима в "Проселочных дорогах" и ориентация на гоголевскую сатирическую манеру. В этом была и сила и слабость первого романа Григоровича. Гротескное изображение владельцев "крещеной собственности" несомненно способствовало разрушению старого уклада жизни. С другой стороны, хотя Григорович и был прав, считая, что "Россия велика и "Мертвые души" далеко еще не все исчерпали"*, его книга, страдая растянутостью и композиционной неслаженностью, мало что добавляла к сказанному великим сатириком.
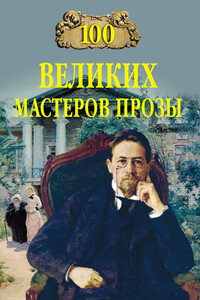
Основной массив имен знаменитых писателей дали XIX и XX столетия, причем примерно треть прозаиков из этого числа – русские. Почти все большие писатели XIX века, европейские и русские, считали своим священным долгом обличать несправедливость социального строя и вступаться за обездоленных. Гоголь, Тургенев, Писемский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Диккенс, Золя создали целую библиотеку о страданиях и горестях народных. Именно в художественной литературе в конце XIX века возникли и первые сомнения в том, что человека и общество можно исправить и осчастливить с помощью всемогущей науки.
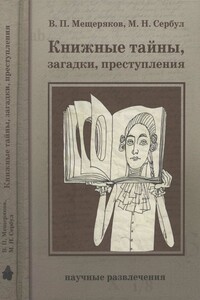
Разве можно представить нашу жизнь без книг? Они сопровождают людей повсюду уже несколько тысяч лет. С ними связано множество любопытнейших историй: ловкого вора выдала сова, жившая в библиотеке; мальчик написал стихи за придуманного поэта; азартный коллекционер сжег редкую книгу; знаменитый писатель выдал свои сочинения за чужие; авантюристы дописали Гоголя и Мольера; автор «Робинзона Крузо» взял «интервью» у преступника, а Проспер Мериме одурачил Пушкина. Одни «книжные» истории похожи на настоящие детективы, другие вызывают улыбку, но все они оставили яркий след в истории.
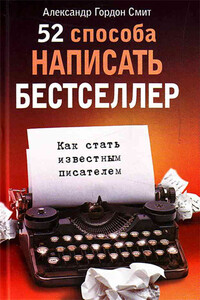
Книга известного издателя Великобритании Александра Гордона Смита включает эффективные идеи и полезные советы, которые помогут вам стать востребованным писателем. Увлекательное и вдохновляющее изложение автора дает возможность понять, в каком направлении двигаться дальше, если вы только вышли на тернистый путь написания книги или остановились на перепутье. Книга предоставит вам шанс создать произведение, основываясь на собственных эмоциях и мыслях, избегая штампов и банальностей. Рекомендации автора, основанные на его личном опыте писателя, редактора и издателя, помогут вам создать свое художественное произведение и написать настоящий бестселлер.
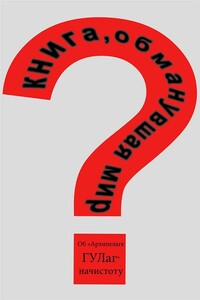
Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.
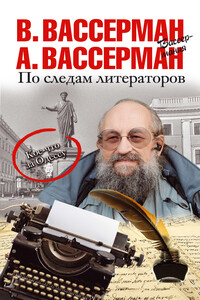
Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.
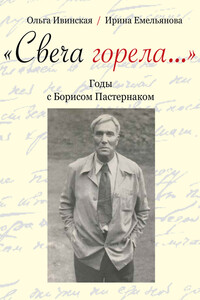
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
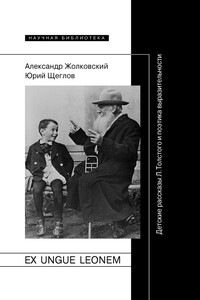
В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.
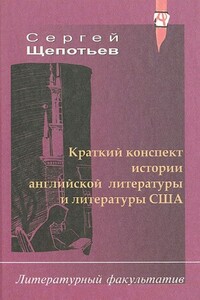
Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.