Цыганский роман - [18]
Я же чувствовал, как раздражение поднимается во мне из-за того, что мать шаркает своими распухшими от голода ногами по холодному коридору, а мне не дает шага сделать. Все сама и сама. Я лежал в теплой пещере своей кровати под ватным одеялом, ненавидел себя за эту слабость, не мог настоять на своем и злился на мать. Меня раздражало, что она шаркает к шкафу, достает кусок линялой бумазеи и ею, а не полотенцем, как сама учила меня в детстве, вытирает большие, крупные свои руки. Я понимал, что полотенца надо беречь для менки: их она отвозила в село и меняла на продукты. Я знал это, но все равно злился. Она прикладывала бумазею к рукам, словно школьную промокашку, чуть-чуть, слегка, а затем вытирала руки о подол платья. Делала она это так, словно проверяла, сухие ли руки? Но я-то знал: экономит нашу бумазейку. С полотенцами ясно, они нужны для обмена, но зачем экономить на старой бумазее? Раздражало меня и то, что сразу же после этого следовал приказ мне подниматься. Мать ничего не говорила, она только показывала рукой, но я хорошо знал, что обозначает этот жест: «Не распускайся! Не пропускай умывания. Не позволяй себе вольностей! Нужно жить, как всегда. Насколько можно…» Она показывала, чтобы я шел в коридор мыться, и я скакал по полу, выбирая место, где облезла краска, — как будто там было не так холодно. Пальцы ног превращались в ледышки, казалось, они даже стучали об пол. Я не смотрел на мать, знал, что она ждет и без меня завтракать не станет.
Сама она умела брать себя в руки. Она родилась и выросла в селе. С пеленок в поле. Однажды ее, совсем маленькую, положили под воз, в тенек, и забыли. Солнце перевалило через воз и долго било прямо в глаза ребенка. С тех пор мама стала близорукой. Я приезжал в ее родное село в другие времена. Поля я не видел, разве что баштаны с арбузами, про которые писал Эдуард Багрицкий: «кавун с нарисованным сердцем берет любимая мною казачка». Эта самая казачка в моем представлении была похожа на мою маму. Казачки ходили с подоткнутыми «спидныцями» — красочными, как на сцене, юбками — и с корявыми пальцами на ногах. Ступни их были похожи на корни дерева, пальцы — землистого цвета. Вечерами я любил слушать, как поют мои родственники в куинджевской темноте, где-нибудь «попид тыном» с горшками и макитрами, точно в опере «Запорожец за Дунаем». Мамин голос ничем не отличался от других, легко сливался с ними, а я боялся открыть рот — слуха у меня не было никакого, и бабушка, мамина мама, вздыхала, когда я, забывшись, пробовал подпевать: «Раниш я тэж спивала, а тэпэр и нэ бачу!»[1] То ли так шутила, то ли прохаживалась по моему адресу. Сама она заводила надтреснутым голосом на весь хутор: «Посады-ы-ыла й огирочкы…» Причем «ы» тянула так долго, что оно уносилось во тьму, за скирды сена, за неторопливую речушку и таяло в луговине. Чуть-чуть передохнув, бабушка продолжала: «…нызько над водо-ою…» И тут из темноты, словно заканчивая паузу, подхватывала моя мама: «…сама бу-у-ду…» Снова следовала пауза — мама брала разгон. Как перед подъемом в гору: «…полыва-аты…» Все набирали в легкие воздух и тянули как можно дольше: «…дрибною слёзо-о-о-йю…»[2] Пели разом, следя за тем, чтобы никто не вырывался из общего течения песни.
Про то, как поливают огурцы мелкою слезою, я знал лишь из старой песни и считал, что все это было когда-то давным-давно. Куры, которыми меня кормили в селе, назывались «дядькивськими», то есть хозяйскими, выкормленными на совесть. Я понимал все так, будто это кто-то из моих дядьев, маминых братьев, сам лично их откармливал, а я имею на эту курицу все права. Осенью после отпуска, когда мы с мамой возвращались домой в город, я сидел на кавуне, таком большом, что, свесив ноги, не доставал до полу: «дядькивським» был и арбуз. Они все могли, мои дядьки. И моя мама — их родная или двоюродная сестра — тоже. Когда в восемнадцатом из города погнали людей на лесозаготовки, она по старой деревенской привычке завернула в «хусточку» — разукрашенный платочек — головку лука, шматок сала, краюху хлеба с щепоткой соли в бумажке и отправилась в лес. Как на поле. Как на производство. Как в свой райнаробраз. Ворчала, а шла. Такая у нее была закваска с детства. С той поры, как рано утром выходила она со всеми в степь и смотрела близорукими глазами на хлеба, которые нужно было превратить в скирды, «копыци». Или с тяпкой сгибаться в три погибели на огороде, поливать огурцы. Суровые люди выходили ранним утром в степь, когда даже солнце само еще, казалось, не разогрелось и стояло бледное, как от недосыпа. Мамины односельчане, хуторяне, собирались в толпу у молотилки, за свадебным столом, вокруг дерущихся «дядькив». Пели по-доброму. Со слезой. Размягчая мозолистые души. Бились по-страшному. Утирая кровь на лице смушковыми шапками. И шутили тоже порой жестоко. Старый дедок рассказывал:
«Один пан убил на охоте двух зайцев. Принес их на кухню и приказал приготовить обед. Повар ободрал зайцев и положил на лавку. Тем временем в кухню забежал панский пес и схватил одного зайца. Что делать? Попадет от пана.
Недолго думая поймал повар жирного кухонного кота, зарезал, ободрал и зажарил на обед зайца и кота. После обеда, когда уже паны съели и зайца и кота, старая пани и спрашивает:

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Шестеро друзей — сотрудники колл-центра крупной компании.Обычные парни и девушки современной Индии — страны, где традиции прошлого самым причудливым образом смешиваются с реалиями XXI века.Обычное ночное дежурство — унылое, нескончаемое.Но в эту ночь произойдет что-то невероятное…Раздастся звонок, который раз и навсегда изменит судьбы всех шестерых героев и превратит их скучную жизнь в необыкновенное приключение.Кто же позвонит?И что он скажет?..

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
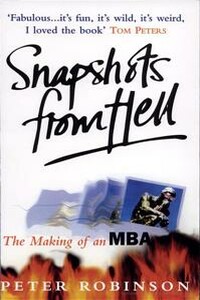
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.