Циркач - [34]
Тем временем Джонни расшатал пробку. Верхняя ее часть, слегка грязная и заплесневелая, появилась над горлышком. Мое предчувствие, что эту бутылку по каким-то причинам лучше не открывать, превратилось в отчетливое беспокойство, но я заставил себя замолчать, когда стало ясно, что это неотвратимо.
Джонни вытянул пробку наполовину, схватил ее и выкрутил полностью из горлышка с безупречной ловкостью, очень осторожно, без малейшего хлопка. Он понюхал жидкость, пожал плечами и протянул мне и бутылку, и пробку. Рассмотрев вблизи влажную, фиолетовую нижнюю часть пробки, я тоже понюхал горлышко, от которого поднимался кисловатый, но знакомый бодрящий запах.
— У тебя стакан есть? — спросил я.
Джонни достал алюминиевую кружку, и я передал ему честь разлива. Судя по цвету и запаху, из бутылки полилось хорошо сохранившееся красное вино.
— Никогда не угадаешь, — сказал Матрос. — Это что, вино?
Я кивнул.
— Вино — это не для меня, — заявил он очень убежденно. — У нас была вечеринка, не помню уже, когда. И что? Кто-то принес бутылку вина. В общем, он ее принес. Попробуй, говорит. Прям как по роже дали, честное слово. Нет, это ерунда.
Немного подумав, он добавил:
— Если никто никуда не торопится, я пойду еще посмотрю. С виду не скажешь, но в глубине там много чего лежит, это точно. Квадратные бутылки тоже, я видел. Если только смогу достать.
Мне нужно было решить, можно ли ему сходить туда еще раз.
— Ты без прикрытия, — попытался я возразить, но по тону, каким это было сказано, Матрос уже понял, что я не хотел запрещать ему новую экспедицию.
Когда он неспешным шагом уходил, меня посетила смутная мысль, что именно сейчас произойдет нечто бесповоротное и безвозвратное. Захотелось позвать Матроса обратно, но, собственно, почему? Времени было навалом, море времени, вечность.
Джонни протянул мне на треть наполненную алюминиевую кружку. Я сделал маленький глоток, распробовал. Вино не прокисло и вроде бы осталось неплохим. Я отдал кружку Джонни.
— Выпей сначала ты.
Джонни, удивившись, слегка засомневался, а потом сделал несколько неспешных глотков. Мой взгляд, как заколдованный, был прикован к его почти неподвижному рту и к пульсирующему горлу, которое мне что-то напоминало, что-то невыразимо затаенное, и нежное, и тайное, но что?..
Джонни не допил до дна, снова наполнил кружку примерно на три четверти и протянул мне. У меня задрожали руки, когда я, неуклюже перенимая кружку, на миг прикоснулся к его ладоням.
— Спасибо, — хрипло прошептал я.
Я не торопился пить и обхватил кружку, словно согревая, но между тем незаметно вертел ее в руках, чтобы повернуть именно тем краем, которого касался рот Джонни, и следил за ним из-под осмотрительно прикрытых век: несколько капелек вина, почти прозрачных, как вода, подрагивали на светлом изгибе его мальчишеской, невинной верхней губы.
Я как раз прокрутил кружку достаточно, чтобы приложить ко рту тем самым краем, которого коснулись губы Джонни. Глядя на его рот, я воображал, что какая-то доля его тепла задержалась в металле кружки и сейчас перейдет на мои губы. И пока я пил, в голове у меня звучал чей-то голос, повторяющий или утверждающий какую-то ерунду: «Кружка, понимаешь. Кружка». Будто я сам этого не знал!
— По-моему, неплохое вино, — выдавил я из себя.
Джонни открыл рот — наверняка, чтобы произнести столь же бессмысленные слова, но в этот момент вдруг прозвучала череда хлестких и чавкающих звуков.
— В укрытие! — зарычал я и бросился бежать.
Я добежал до угловой стенки — скорее всего, это были руины кухни, — возвышающейся над землей всего на каких-то полметра, но все лучше, чем ничего, и перелетел через нее. Раздался хлопок, и очень сильной взрывной волной меня придавило к земле еще до того, как я упал бы сам. Совсем недалеко от меня обрушились три, четыре удара, после которых на меня низвергся дождь из комков земли и камней. Грохот взрыва утих так же быстро, как начался, и пули по-прежнему свистели над головой. Что там за идиот на пьяную голову присел передохнуть на пушечном Дуле?
Ранило ли меня? В операх и фильмах герой тут же замечает ранение, но на фронте все иначе: раненый зачастую не чувствует ничего особенного и понимает, что у него нет ноги, только собравшись встать.
Я поднялся и огляделся в поисках Джонни. Он лежал недалеко, но с другой стороны стенки и, казалось, полз в мою сторону; по крайней мере, движения, которые он, лежа на животе, совершал, походили на то. В тот же миг я оказался рядом и схватил его за плечи.
Он лежал лицом вниз. Движения его рук и ног не имели ничего общего с попыткой ползти, но были лишь зловещей дрожью, которую я узнал, но значение которой не хотел понять. Я перевернул его. Лицо Джонни было бесцветным. Глаза — закрыты, будто он спал. Я приподнял его, прижал к себе, будто чтобы потрясти и разбудить, и только тут заметил, что мое лицо, подбородок и шею заливает теплая волна — его кровь. Вряд ли он был еще жив: его горло и грудь были так глубоко вспороты, что невозможно было остановить кровь или определить размер раны, чтобы ее обработать. Он шевелился просто потому, что корчился в судорогах, понемногу утихавших. Я прижался лицом к его лицу, и кровь, пролившаяся на меня, когда я его поднимал, стекала по переносице и верхней губе прямо мне в рот, так что мне пришлось испробовать ее на вкус. Я не смог заплакать или закричать, просто сидел тихо некоторое время. Пришла мысль: «И это все?» Только после этого появились слезы. И — будто слезы натолкнули меня на эту мысль — я поцеловал Джонни в закрытые глаза, пропитывая его веки его же кровью.
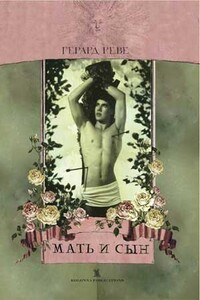
«Мать и сын» — исповедальный и парадоксальный роман знаменитого голландского писателя Герарда Реве (1923–2006), известного российским читателям по книгам «Милые мальчики» и «По дороге к концу». Мать — это святая Дева Мария, а сын — сам Реве. Писатель рассказывает о своем зародившемся в юности интересе к католической церкви и, в конечном итоге, о принятии крещения. По словам Реве, такой исход был неизбежен, хотя и шел вразрез с коммунистическим воспитанием и его открытой гомосексуальностью. Единственным препятствием, которое Реве пришлось преодолеть для того, чтобы быть принятым в лоно церкви, являлось его отвращение к католикам.

«Рассказ — страниц, скажем, на сорок, — означает для меня сотни четыре листов писанины, сокращений, скомканной бумаги. Собственно, в этом и есть вся литература, все искусство: победить хаос. Взять верх над хаосом и подчинить его себе. Господь создал все из ничего, будучи и в то же время не будучи отрицанием самого себя. Ни изменить этого, ни соучаствовать в этом человек не может. Но он может, словно ангел Господень, обнаружить порядок там, где прежде царила неразбериха, и тем самым явить Господа себе и другим».

Три истории о невозможной любви. Учитель из повести «В поисках» следит за таинственным незнакомцем, проникающим в его дом; герой «Тихого друга» вспоминает встречи с милым юношей из рыбной лавки; сам Герард Реве в знаменитом «Четвертом мужчине», экранизированном Полом Верховеном, заводит интрижку с молодой вдовой, но мечтает соблазнить ее простодушного любовника.

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Светлая и задумчивая книга новелл. Каждая страница – как осенний лист. Яркие, живые образы открывают читателю трепетную суть человеческой души…«…Мир неожиданно подарил новые краски, незнакомые ощущения. Извилистые улочки, кривоколенные переулки старой Москвы закружили, заплутали, захороводили в этой Осени. Зашуршали выщербленные тротуары порыжевшей листвой. Парки чистыми блокнотами распахнули свои объятия. Падающие листья смешались с исписанными листами…»Кулаков Владимир Александрович – жонглёр, заслуженный артист России.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Опубликованная в 1909 году и впервые выходящая в русском переводе знаменитая книга Гертруды Стайн ознаменовала начало эпохи смелых экспериментов с литературной формой и языком. Истории трех женщин из Бриджпойнта вдохновлены идеями художников-модернистов. В нелинейном повествовании о Доброй Анне читатель заметит влияние Сезанна, дружба Стайн с Пикассо вдохновила свободный синтаксис и открытую сексуальность повести о Меланкте, влияние Матисса ощутимо в «Тихой Лене».Книги Гертруды Стайн — это произведения не только литературы, но и живописи, слова, точно краски, ложатся на холст, все элементы которого равноправны.
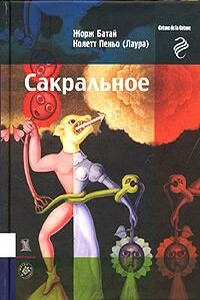
Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.

