Чужая весна - [16]
1937
«Все то же творится на свете…»
1939–1940
Суровая зима. 1939–1940
Inter arma silent musae
I. «Не называя даже словом…»
II. «В убежища, подвалы, склепы, щели…»
III. «Cирены — исступленные кликуши…»
IV. «Присядем, Муза, у огня…»
V. «Сорок градусов мороза…»
VI. «Все небо в огненных всполохах…»
1939–1941
Будни
1940
Синий день
1941

В центре внимания третьего сборника «Бурелом» (Хельсинки, 1947) внутренний мир поэта, чье душевное спокойствие нарушено вторжением вероломной войны. Новое звучание обретает мотив любви к покинутой родине. Теперь это солидарность с ней в годину испытаний, восхищение силой духа народа, победившего фашизм.

Четвертая книга стихов «Ветви» (Париж, 1954) вышла незадолго до смерти Веры Булич. Настроение обреченности неизлечимо больного художника смягчено в сборник ощущением радости от сознания, что жизнь после ухода в иной мир не кончается.Лейтмотив всего, что Булич успела сделать, оставшись, подобно другим «изгнанникам судьбы», безо всякой духовной опоры и материальной поддержки, можно определить как «верность памяти слуха, крови и сердца». «Память слуха» не позволяла изменить родному языку, русской культуре.

Вторая книга читателя и ангеловеда поведает об эволюции Андрея Ангелова как писателя. От автора с хорошим потенциалом к самобытному гению. Путь длиной 25 творческих лет. Без права на рекламу. Наша вера — в Ваших руках.

Бестселлер Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и снятый по его мотивам сериал «Игра престолов» давно стали культовыми во всем мире. Российские учёные, используя данные современной науки, перекидывают мост между сказочными пространствами и реальным миром, ищут исторические аналогии изображаемым в сериале событиям и, кажется, вплотную приближаются к тому, чтобы объяснить феномен небывалой популярности этого произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2000, № 6. Проблема, которой посвящен очерк Игоря Ефимова, не впервые возникает в литературе о гибели Пушкина. Содержание пасквильного “диплома” прозрачно намекало на амурный интерес царя к Наталье Николаевне. Письма Пушкина жене свидетельствуют о том, что он сознавал смертельную опасность подобной ситуации.
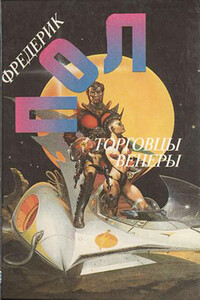
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
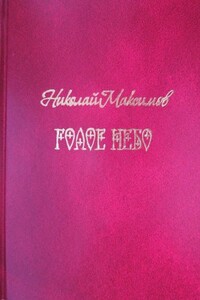
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.
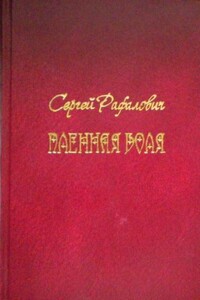
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.