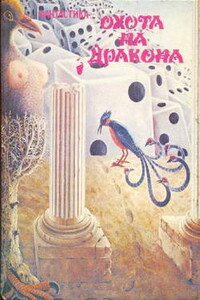Четвертое измерение - [95]
— Эриннии! — вскричал Ротаридес. — Символ мщения, подземные богини кровной мести.
— Совершенно верно! — кивнул Цицерон и исчез.
Ротаридес чувствовал, что управлять полетом он не властен, что его влечет прямо в объятия страшных призраков, и прикрыл руками глаза.
— А что у вас нынче на ужин? — спросила одна из Эринний голосом Куцбеловой.
— Почему вы этой подписали бумагу? — напустилась на него Рошкованиова.
— Зачем вы и той подписали? — вторила Тварогова.
Увидев, что вместо Эринний вокруг него кружат неотвязные соседки, он вскрикнул и проснулся.
В классе уже почти стемнело, и он с трудом различил на доске вычисления, написанные вкривь и вкось. У него затекла шея и болел лоб, потому что во сне он упирался в край стола, но как только он вспомнил прерванное сновидение, кровь с новой силой забурлила в жилах. Он пробудился в иной реальности, и ему теперь было ясно, что надо делать.
12
Тонка с отвращением посмотрела на исписанную страницу («Из глазниц бараньей головы…») и приняла окончательное и бесповоротное решение. Пишущая машинка застрекотала в бравурном стаккато: «Раз и навсегда прекращаю перепечатывать чужие тексты, у меня и своих идей хватает. Правда, я лишаюсь приработка, но зачем нам вообще деньги? Я заработала достаточно, мы купили спальный гарнитур, два ковра, шкаф марки «Габриэла» с раздвижными дверцами… А где все это? Нераспакованное, кучей сложено в Сенице у дяди, который, конечно, ужасно раскаивается, что позволил превратить свой подвал в склад мебели. Мы же нормальные люди, а не кроты какие-нибудь, которые тащат и тащат в свою нору, пока не набьют так, что повернуться негде. Не хотим же мы уподобиться деревенским… вечером в целом доме у них светится только одно окно в нижнем этаже, а на верхнем покрываются пылью огромные нежилые комнаты… Необходимо взвесить цену денег, а не то придется когда-нибудь заплатить за них сторицей! Если бы нам удалось продать эту без толку стоящую мебель, то хватило бы поехать куда-нибудь к морю, хотя бы и не так далеко, как Эва — она собирается на Кипр. Сегодня она всучила мне очередную книгу, на сей раз эссе Анатоля Франса, я обнаружила там отчеркнутое ею место — ни одну женщину не оставят равнодушной эти строки: «В повседневных заботах мать семейства утрачивает свою свежесть и силы, изводит себя до мозга костей. Изо дня в день один и тот же вопрос: что сегодня готовить?, необходимость постоянно мести пол, выбивать и вытирать пыль, чистить одежду — все это капли, которые в конце концов своим беспрестанным падением медленно, но верно подтачивают не только дух, но и тело. У кухонной плиты миниатюрное, белолицее и розовощекое создание с хрустальным смехом превращается с помощью какого-то злого волшебства в почернелую и жалкую мумию…» Собственно говоря, это слова не самого Анатоля Франса, он лишь приводит цитату из книги какого-то Герхарда фон Аминтов. Но затем продолжает уже от себя: «Я бы создал мужчин и женщин по образу и подобию не человекообразных, каковыми они в действительности являются, а насекомого, ведь оно перевоплощается, из гусеницы становится бабочкой, а в конце жизни не имеет иных забот, кроме как любить и быть прекрасным…» — Какая жалость, что не этот мудрый человек был творцом всего сущего!.. Я то и дело спрашиваю себя, почему, собственно, Эва навязывает мне такие книги. По-моему, моя Эвочка ненавидит мужчин и с тем селадоном всего-навсего играет, как кошка с мышкой. Помню, в позапрошлом году она вернулась из Италии беременная, быстренько и в полной тайне сделала аборт — может быть, после этого и мстит за что-то. Но я не уверена, стоит ли жалеть о случившемся, не было ли ей ниспослано поистине упоительное приключение? Мне самой довелось пережить нечто подобное, хотя и во сто крат более невинное, у берегов студеного Балтийского моря на севере Польши. Я тогда в первый раз увидела настоящее море… Я была студенткой и вдобавок девственницей…» — Тонка спохватилась, выдержит ли бумага столь откровенные признания, но потом и сама удивилась, как глубоко укоренилась в ней женская стыдливость, и продолжала писать: «Я чуть было не покраснела, словно эти строки прямо с машинки прочитает толпа любопытных. Да, наедине с собой краснею, хотя не исключено, что в присутствии близких знакомых я говорила бы об этом как о чем-то вполне заурядном и без капли смущения. Но писатели, признаться, менее щепетильны. Вообще-то стыда у них нет, не в том, понятно, смысле, что они на все способны, но ведь они выставляют на всеобщее обозрение свое глубоко личное, обнажают перед публикой любые движения души, свои мысли и переживания. В принципе труд писателя прямо предусматривает различные степени и формы беззастенчивости. Разве женщина станет рассказывать про свои ощущения в первую брачную ночь? Но если она напишет об этом рассказ или повесть, это вдруг превращается в благородный поступок, хотя на самом деле нет никакой разницы — то же и, пожалуй, даже более откровенное бесстыдство. Для меня писать равнозначно перестать стесняться. Я знаю, многие оправдывают беззастенчивость высшими целями, но что, если мне этого не дано? Итак: я была еще девственницей. Не мне знать, почему наш сопровождающий, белокурый, голубоглазый парень, выбрал именно меня, там были девчата и покрасивее, и побойчее, и такие, с которыми в этом смысле было бы куда легче договориться. Он протанцевал с нами в гостинице целую ночь, а утром мы отправились прогуляться к морю, только вдвоем — он и я. Недавно прошел шторм, дул сильный ветер, вздымая высокие волны, и он — звали его Яцек — предложил искать янтарь, по-польски — бурштын. Кто, говорит, найдет первым, тот, значит, несчастливый человек. Мы побродили босиком по сырому песку и водорослям, выброшенным на берег, как вдруг Яцек нашел янтарное зернышко с горошину. Но как ни старалась я доказать, что несчастливей его, пусть даже самую малость, все же смогла похвастать только расколотым куском смолы с вкраплением кремня или какого-то другого столь же никчемного минерала, а он нашел еще три прекрасных камешка медового цвета. Позже он признался мне, что его бросила девушка, с которой он дружил пять лет, у них уже и день свадьбы был назначен, а теперь он живет здесь, на окраине Гданьска, в одной квартире с братом. Поначалу я думала, что мы просто бродим у пенистых волн и ищем янтарь, но, как выяснилось, мы шли к его дому. Он сказал, что сегодня утром брат уедет на соревнования яхтсменов, а ему надо вывести собак. Мы шли сосновым леском вдоль заграждения из колючей проволоки, мимо какого-то военного объекта; у густого кустарника мы остановились, и Яцек робко поцеловал меня, но это было просто так, как говорится, для бодрости на дорожку. Потом мы остановились еще раз, целовались долго и со вкусом, я чувствовала, что он дрожит, теряет голову, и то ли от бессонной ночи и найденного янтаря, то ли под впечатлением его рассказа о том, какие муки принесла ему любовь, я вдруг решила, что буду его, если только он найдет ко мне подход. Каким-то образом он догадался об этом, обнял меня, и мы пошли быстрее. Родственные, но все же разные языки иногда странно сближают людей: если мы с ходу не совсем поймем какое-то слово, то придаем ему именно тот смысл, который хотим в нем отыскать, наверняка мы бы ничуть не лучше поняли друг друга, если бы даже понимали все слова и выражения; так или иначе, они окутаны для нас завесой таинственности, оставляют простор для воображения… В двери он нашел записку, а когда открыл дверь, то взвыл от ужаса под аккомпанемент собачьего воя. Брат, оказывается, уехал еще вчера в обед, и собаки, выпустить которых было некому, учинили в квартире настоящий погром. Кровать в спальне превратили в логово, подушку разодрали, на ковре оставили зловонные пятна, в гостиной сбросили с полок книги, и на одной из них — эта деталь сильнее всего мне врезалась в память, до сих пор помню, что это оказалась книга стихов Велемира Хлебникова, — лежала кучка собачьего помета. В такой квартире, в этом хаосе и вонище, ясное дело, не могло быть и речи ни о какой лирике, злополучное происшествие отдалило нас друг от друга, а меня оно даже пришибло: было во всем этом что-то низменное и вульгарное, и оно, как мне чудилось, почему-то имеет ко мне самое прямое отношение. Потом мы оба от души посмеялись, в известном смысле это и впрямь можно было расценить как дурацкий заговор против задуманного любовного свидания, и хотя Яцек твердил, что сегодняшнюю неудачу можно исправить завтра, ко мне уже не вернулось то настроение, какое было тогда у моря после пронесшегося шторма, я уже не чувствовала к нему прежнего влечения… После у меня появилась подруга, здоровая, ядреная баба того склада, который мужчины между собой называют «самка» или «машина», по-моему, особа весьма похотливая и с немалым опытом — по этой причине я и выбрала ее в наперсницы, к тому же мы с ней встречались на конкурсах чтецов-декламаторов… Боже мой, теперь мне даже не верится, сколько у меня было всяких интересов, чем только я тогда не увлекалась! Однажды мне предложили читать Хлебникова — и я не долго думая объявила, что ненавижу этого поэта… Мне удалось кое-чего достичь, я мечтала еще усовершенствоваться, и поэтому ужасно обрадовалась, когда на поэтическом вечере в Прешове один из членов жюри предложил свои услуги — поработать над моим выступлением как режиссер. Он заявил, что во время декламации мне надо прежде всего прекратить гримасничать… Потом стал говорить, что я к тому же ломаюсь, и вызвался лично излечить меня от этого порока, и та подруга уговаривала меня — не дури, не маленькая, не упускай случай! Таким образом, с его помощью я отучилась ломаться, однако гримасы перешли в какую-то глупую ухмылку, и декламировать я стала раз от разу все хуже… Еще она уверяла меня, что нам нужны не просто мужчины, а сильные личности в полном смысле слова и поди найди таких при нынешней феминизации. Помню, вскоре после Нового года мы сидели у нее и слушали диски, и тут она мне с гордостью поведала, что новый ее дружок страшно ревнив, не разрешает ей шагу без него ступить и что во время празднования Нового года из ревности пырнул ее ножом. Она показала свежую рану между ребрами и гордо похвасталась: «Вот видишь, существуют же сильные личности, сильнее нас, женщин!» Помнится, я прямо-таки испугалась, когда она между прочим сообщила, что он и теперь здесь, спит в соседней комнате, но я, дескать, не должна обращать внимания, он наверняка не появится, он ужасный соня. Такая характеристика меня потрясла, особенно когда она бросила небрежным тоном: «Знаешь, он ужасный соня…» Такое ощущение, словно за стенкой спит какое-то чудовище, которого трудно добудиться и заставить действовать, но уж коли он продрал глаза, то пойдет крушить направо и налево, как те чудовища в японских фильмах, выходящие из моря. Она все говорила и говорила, я больше помалкивала, диски ставили уже по второму-третьему разу, и вдруг дверь без стука отворилась, и вошел он. Не помню хорошенько, как он выглядел, возможно, мне только показалось, что он высокий и могучего сложения, я ведь смотрела на него снизу вверх — мы сидели прямо на полу. Зато я прекрасно помню, как он уставился на нее, а слова адресовал мне: «Антония, не слишком ли ты засиделась? Час поздний, тебе пора уходить…» Взглядом он раздевал ее, а меня выставил прочь просто потому, что проснулся и пожелал ее. Она не вступилась за меня ни полсловом, томно улыбалась этому своему супермену и трепетала в предвкушении удовольствия. Я шла от нее как во сне, я вычеркнула ее из списка подруг, хотя в чем-то, надо признаться, она бескорыстно оказала мне услугу: помогла мне точно определить, какой мужчина мне не подходит… С того самого дня я отдалась на волю неспешного течения, которое в конце концов должно было вынести меня к такому, как мой муж. На самом деле те, кто чуть что пускает в ход кулаки или нож, куда проще и, по-видимому, безобиднее тех, кто приходит в ужас при одной мысли о необходимости ударить кулаком или погрозить тем же ножом. У первых — фантазия убогая, они ничего не таят в себе, и все у них можно предвидеть заранее, тогда как вторые могут дойти до изощреннейшего самоистязания, а никто толком не поймет, какая путаница у него в душе и куда его заносит воображение, от которого ему самому страшно делается. Я почти уверена, что мой муж и мухи не обидит, и тем не менее он однажды мне признался, что ему вечно приходится гнать прочь непрошеные мысли о вещах, которых он бы никогда себе не пожелал. Я спросила, что именно, и он сказал: болезнь, смерть — или ни с того ни с сего позволить себе что-нибудь постыдное, движением, жестом или словом нарушить общепринятые нормы поведения, стать посмешищем… Вот и пойми его. Пока все в порядке, человека одолевают страхи, изводишься сомнениями и неуверенностью, а как только и вправду стрясется что-нибудь плохое, возникнет опасность, тут же бросаешься в другую крайность: откуда-то приходит надежда, что все это неправда, до последней минуты веришь, что все образуется и кончится хорошо. Так, например, случилось с одной моей знакомой; ее муж поплыл на байдарке по Дунаю и четыре месяца о нем не было ни слуху ни духу. Трудно придумать более веское доказательство, что человек уже утонул, однако жена не верила, ей все мерещилось, что он является домой, словно просто где-то загулял. Она старалась побороть в себе надежду, гнать эти видения, подготовить себя к страшной истине — в конечном итоге установили, что он действительно погиб, — и все-таки никакими силами не могла погасить последнюю искорку: «А что, если…» Что правда, то правда, надежды питают и прибавляют сил: достаточно хоть малейшего намека на скорое осуществление, пусть небольшого, пусть мнимого приближения к нему, как тупое, бессмысленное ожидание перерастает в надежду; исполнение мечтаний она окутает туманом, но одновременно оно заиграет новыми красками, ароматами, наполнится тем более волнующим содержанием, чем неопределеннее оно представляется — как, скажем, в случае с нашей будущей квартирой. В любом ожидании, которое само по себе губительно для души, которое выматывает и иссушает ее, необходимо сохранять хоть крупицу надежды. По-моему, если человек не в силах вынести ожидание, то дело тут не в недостатке терпения, а в убожестве его внутренней жизни, в отсутствии воображения, в неспособности мечтать…» Тонка перевела дыхание, распрямила спину до хруста в костях и, вставляя новый лист бумаги, подумала, что ей не слишком-то хорошо удается выразить то, ради чего она затеяла это свое писание. «Я ушла слишком далеко в сторону, к тому же, упомянув о деньгах, забыла рассказать про один прошлогодний эпизод. В зарплату мне досталась меченая сотня, кто-то авторучкой нарисовал на ней малюсенькое сердечко, я еще чуть было не подумала, что это кассир Вереш таким способом признается мне в любви… Я разменяла сотню в магазине, но очень скоро та же меченая купюра опять вернулась ко мне, когда мне платили за перепечатку! Правда, я не записала номер купюры, но не думаю, чтобы кто-то забавы ради рисовал сердечки на каждой сотне, которая попадает ему в руки. И я убедилась, что деньги все одинаковы. И сколько ни старайся — все возвращается, как бумеранг. Бросишь и подберешь, бросишь и подберешь — как в сумасшедшем доме. Сами по себе вещи не имеют смысла, пока не начнешь интересоваться ими по какой-либо иной причине…» Тонка снова задумалась и побарабанила пальцем по крышке машинки в поисках перехода к следующей мысли. «Со мной то же самое: о чем бы я ни писала, все оказывается так или иначе связано с одной и той же темой, которую я озаглавила бы «Судьба одной семейной пары». Труднее всего найти форму повествования, угол зрения. Мне бы хотелось описать нашу жизнь не с точки зрения меня — жены, но и не человека стороннего, который ведет рассказ с позиции то одного действующего лица, то другого и знает все о своих персонажах. А что делать мне, если я далеко не всегда знаю, о чем думает мой собственный муж, при всей нашей близости нам никогда не придет в голову одна и та же мысль, никогда не приснится одинаковый сон. КТО же должен рассказывать про нашу жизнь? — вот в чем вопрос. Когда я задаюсь этим вопросом, мне приходит на память одна картина, которая буквально привела меня в бешенство. Собственно говоря, представляла она бытовую сценку: муж и жена разговаривают на улице, но изображены они были под таким нелепым, немыслимым углом зрения, словно художника подвесили за ноги к уличному фонарю и он рисовал чуть ли не вверх ногами. Но на фонаре он висеть не мог, так как фонарь был изображен целиком, сверху донизу. Спрашивается, КТО же мог так увидеть эту сцену, если не художник? КТО мог так воспринять этих двух персонажей? В этой связи мне вспоминается статья о проблеме рассказчика в литературном произведении, конкретно в романе, которую я когда-то перепечатывала, вернее, в памяти у меня удержалась приведенная там цитата из Томаса Манна, а содержание самой статьи уже выветрилось из головы. Приблизительно так: «Кто это звонит? Это не звонари. Они выбежали на улицу, как и весь народ… Веревки не натянуты, а колокола раскачиваются, гудят. Может, скажете, что никто не звонит? Нет, так ответить способен лишь человек невежественный, лишенный всякого воображения. Колокола гудят, значит, кто-то звонит, хотя на звоннице никого нет. Итак, кто же звонит в колокола Рима? — Дух повествования. — А разве он может быть везде, hic et ubique

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.