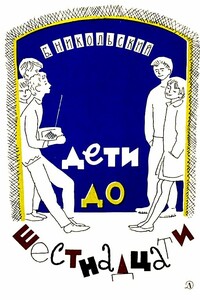Гарриет минуло семьдесят лет. По этому случаю её друзья снова обратились к конгрессу с просьбой дать пенсию героине гражданской войны. Самое упоминание слов «героиня» и «гражданская воина» вызвало возмущённые возгласы. Не «героиня», а просто «участница войны между штатами»!
Но и «участнице» пенсии не дали. Тогда друзья Гарриет обратились в военное министерство. Наконец она получила двадцать долларов в месяц, но не как «участница», а как вдова рядового Нельсона Дэвиса, «который с честью служил в роте “Г” восьмого пехотного полка Соединённых Штатов».
На двадцать долларов с трудом можно было прожить десять дней.
Годы шли. Друзья умирали один за другим, новые поколения вступали в бой.
В 1910 году соседи повели Гарриет посмотреть на недавнее изобретение, называемое «синематограф» или «движущиеся картины». Это было после большого негритянского погрома в Спрингфильде, городе Линкольна, невдалеке от его могилы. На большой белой простыне показывали демонстрацию протеста: маленькие чёрные девочки в белых платьицах шли, взявшись за руки, а над ними колыхался плакат с надписью: «Папы и мамы, за что нас хотят убить?»
Когда Гарриет выбралась на улицу из тёмного сарая «синематографа», к ней подошли двое белых — дама с зонтиком и господин с фотоаппаратом.
— Эй, бабушка, — крикнул господин, — не знаешь ли, где здесь живёт Мойсей Табмен, герой гражданской войны? Мы хотим его сфотографировать.
— Мойсей Табмен? — с недоумением переспросила Гарриет. — Вы думаете, что это мужчина?
— Разве женщина может называться Мойсеем? — спросил фотограф.
— Мы слышали, что он пережил много увлекательных приключений, — добавила дама.
Гарриет расхохоталась.
— Мойсей умер, — сказала она. — Сердце у него от гнева окаменело, и он скончался.
Господин и дама переглянулись.
Вероятно, они оба подумали, что старушка выжила из ума.
— О каком гневе она болтает, — проговорила дама, — ведь негры, кажется, давно пользуются всеми правами? Чего им ещё нужно?
Гарриет не слышала этих слов. Семеня ногами и стуча палкой, она спешила домой.
Давным-давно она посадила перед своим окном яблоню.
За долгие годы дерево выросло и окрепло. Его пышная листва закрыла окно, и летом золотисто-зелёные тени суетились но дощатому полу и по кровати.
На этой кровати Гарриет провела весь февраль 1913 года.
У неё было воспаление лёгких.
В сильном жару она видела то рыжую миссис Сьюзен с хозяйственной плёткой, то дымящиеся скаты Форта Вагнер и лицо мёртвого Пинча. Потом мокрые чёрные ленты на штыках караула возле Белого дома. Потом искажённое ненавистью лицо проводника вагона и его завывающий голос: «Цветные нападают на белых!» И Гарриет снова заплакала. Это ведь не беда — плакать, когда никто не видит.
Джейн бы не заплакала. Джейн из другого теста.
Утром жар спал. Пот выступил на искалеченном лбу Гарриет, и у неё не было силы его смахнуть. Но ей стало легче.
Тени ветвей яблони двигались по одеялу. Весенний ветер шумел за окном, но Гарриет казалось, что шумит не ветер, а старые леса Мэриленда. Ей казалось, что на лесной делянке звонко тюкают топоры и Большой Бен одобрительно кричит: «О-хэй-о, покажи им, Хэт, как ты свалишь дядю Хикори!» И солнце пробивается сквозь листву золотой струёй, словно крынку мёда вылили на зелёное блюдо.
Молодость нельзя вернуть, но о ней можно вспомнить.
Гарриет казалось, что она выздоравливает, хотя руки и ноги у неё становились всё тяжелее. Воздух был лесной, свежий, смолистый.
Она улыбнулась и прошептала:
— Всё впереди… дети… люди…
Больше ей ничего не удалось сказать.
Сердце у неё остановилось 10 марта 1913 года, в восемь часов утра.
Последнее, что ей привиделось и послышалось, — это тонкий звук скрипки и смычок Сэма Грина, указывающий на Полярную звезду.