Бульвар - [24]
Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что толстые женщины мне не нравятся, как и худые. Люблю золотую середину, и Лина отлично вписывалась в такое мое видение. Я смотрел на нее с восторгом и не скрывал этого. Лина заметила это и немного покраснела.
Мы опять обнялись и поцеловались, и я почувствовал, как по-кошачьи мягко, ласково она прижимается ко мне, вот-вот замяукает. Я коснулся Лининых губ так, будто слизал кремовую начинку с торта.
— Подожди. Я с дороги и весь день на ногах в университете. Душ приму.
— И я с тобой.
Лина не возразила.
Теплые струи воды ласкали нас, и мы не отворачивались от них. Мои руки, будто потеряв ориентир, хаотично двигались по телу Лины, ее руки — по мне, неизвестно что ища. Губы пили губы, иногда опускались друг перед другом на колени, освежая дыханием поцелуя самое тайное и вечно желанное...
Лина хмелела от свободы и легкости, горячо и безоглядно отдаваясь порыву, который под крылья радости гнал ветер новых неизведанных чувств, поднимающих ее до высоты блаженства. Одеяло, которое когда-то натягивалось на себя, чтобы быть невидимой и примитивной — далеко отбросилось и забылось. Лина хотела быть и чувствовать, удивляться и верить в то, что эти чувства у нее не последние. Завтра опять взойдет солнце и наступит утро, потом его сменит день, а день — вечер. И, наконец, вечер перейдет в Божью тишину ночи, где все живое ищет спокойствия. И в этом бесконечном полотне природы, которое меняется одно на другое и отличается только цветом и звуком, запахом и температурным балансом, слышалась она — новая, удивленная и пораженная сама собой...
Мы перебрались в комнату на диван, сладко мучая друг друга. Мой малыш, казалось, лопнет от напряжения, требуя своего вулканического извержения. Входить в Лину я не спешил. Наши руки и ноги переплелись, солнечным огнем горели тела. Не хватало воздуха. Мои губы прилипли к Лининым губам. Иногда я отрывался, и по очереди — вначале одну, потом другую — целовал бусинки ее сосков. Потом ниже зарывался лицом в ее пушистую ложбинку, кончиком языка чувствуя ее солоноватость. В коленях согнутые ноги поднимались вверх, колыхаясь мачтами парусника на крутых волнах, выписывая невероятные линии и круги, а потом, как оборванные канаты, обвивали мои плечи.
Лина захлебывалась в своей дикой необузданности. Полностью отдаваясь мощному животному инстинкту первобытности, она забыла про мораль и стыд, культуру и цивилизацию, про вечно попрекаемую по причине и без причины пристойность и, пожалуй, про самое страшное — страх показать» шлюхой. Сейчас она была ей. Она хотела ей быть Подсознательно всю жизнь мечтала об этом. И как голодная собака никогда не выпустит кость из своих зубов, так теперь и Лина никогда бы не отказалась от этих минут наивысшего самосгорания.
— Войди... — прижала Лина меня к себе.
И я всем своим упругим желанием, которое туманом затягивало мои мозги и начинало звенеть одной нотой, нырнул в ее возбужденный океан.
Радостным гневом и ненавистью он закипел. Мы до крови кусали друг друга, царапали, слюнявили лицо и шею, и нам было несказанно хорошо. И в последний момент этого взлета, когда небо обрушилось на нас, опустошенные и мокрые, мы откинулись друг от друга и, тяжело дыша, лежали молча.
Моим желанием было отодвинуться подальше и чтоб никто в этот момент не дотрагивался. Даже чувство неприязни возникало от самого случайного прикосновения. И я был благодарен Лине за тишину этих пустых, ничем не заполненных минут. Через некоторое время я услышал, как Лина попросила: «Пить хочу».
— У меня вино в холодильнике, хочешь?
— Нет, лучше попить чего-нибудь.
Я принес холодный чай, который обычно готовлю для себя. Лина с удовольствием выпила целую кружку.
— Еще, — попросила она, облизывая губы
— Холодного чая больше нет. Дать горячего?
— Нет, тогда лучше вина.
Холодное вино мы пили маленькими глотками. Оно отлично утоляло жажду и легко туманило голову.
— Где ты был с утра? — спросила Лина.
— На радио работал, — обманул я (не рассказывать же ей мою эпопею утреннего пробуждения).
— В полдевятого? — удивилась Лина. — Так рано?
— Во-первых, не в половину, а без десяти девять ты позвонила.
— Откуда ты знаешь, во сколько я была у тебя? Ты же на радио работал, — можно сказать, со всеми потрохами взяла меня Лина. Мне показалось, что я даже покраснел от своего глупого прокола.
— Да нет,— начал нелепо оправдываться я. — Вчера в театре посидели...
— У тебя кто-то был? — тихий, робкий вопрос Лины.
Я понял, если начну еще говорить какую-нибудь глупость, тогда совсем пойду на дно и ничего не докажу. И в какой-то момент разозлился на себя: почему я должен оправдываться, что-то доказывать? Кому и зачем? Моя жизнь — это моя жизнь. Я живу как хочу и как умею. И делить ее с кем-нибудь или нет — опять-таки мое право. Я человек свободный, никому и ничем не обязан. Если только родителям, но их нет — умерли. Только их могилки — знак суда и памяти. Все остальное — суета и бессмыслица. Даже Родина — абстрактное понятие. Точное представление имеет только то, что несет на себе вес ответственности и заботы. И, конечно, ни в коем случае дикое и животное: дай и сгинь! Родительское — дай и сгинь! — не существовало. Не могло существовать. Если бы такое было — то уже не родительское. Дай и сгинь! — требовала Родина. Жестоко, безапелляционно. Указывая, что это твоя обязанность, и ты не имеешь права отказать. Твое тело для нее — гной. Твоя кровь для нее — вода. До последнего твоего: пота, слез, боли, ненависти, измены, мужества, — все для нее. Ты только вещь, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. И нет никакой разницы, кто определяет и утверждает ее деятельность, кто, от ее имени бьет в колокола и кричит о вечной преданности ей, и требует от других неоплатного долга..

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
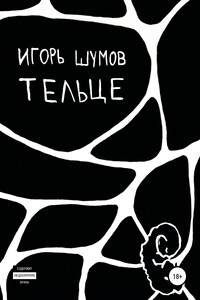
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).