Бухенвальдский набат - [27]
Шрифт
Интервал
прорывается сатира,
как обличенье,
источая яд!
1973
* * *
Садовник старый жил последний час.
— В чем жизни смысл? —
его спросили люди.
— Полвека я растил плоды для вас,
пусть этот труд мне памятником будет.
Коль срок пришел —
я смерть свою приемлю.
Вам завещаю:
берегите Землю!
1973
* * *
Последний лист календаря
опять пошел в расход...
Еще один, выходит, зря
был прожит мною год.
Рассвет и вечер, день и ночь,
недели прочь и месяц прочь.
И так — без пользы и следа —
текут года, бегут года...
Как у дряхлеющих мужчин,
проживший долгий срок,
мое лицо полно морщин
и вдоль, и поперек.
А мне совсем немного лет,
но сколько горя, сколько бед,
жестокой и пустой борьбы
я взял из жестких рук судьбы!..
Хоть век шлифуй слепой графит,
пусть твой велик талант.
Графит, увы, не заблестит
огнем, как бриллиант.
Из глины стали не сварить.
Из камня нити не скрутить...
1973
ЗАРЯНКА
Растаяла предутренняя тень,
на легких крыльях поднимался день.
И в чаще, наяву
как в полусне
зарянка пела песню о весне.
Чем громче раздавался светлый звук,
тем тише становился сердца стук:
за каплей
капля
в песню кровь ушла.
И песня потому была тепла,
и потому сверкала на лету,
собой наполнив ширь и высоту.
Зарянка —
два распластанных крыла...
А песня —
все плыла,
плыла,
плыла...
1974
* * *
Для лета нынче мало света,
но я об этом не грущу.
Я вдохновением поэта
нелепый сумрак освещу.
И небо в красках полусонных
я растворю в голубизне.
И листья вялые подсолнух
упруго повернет ко мне.
Нет, не ко мне, а к вдохновенью,
оно во мне и вне меня.
Где вдохновенье — там горенье,
там праздник солнца и огня.
1974
* * *
Живу
Дышу шестидесятым маем.
То тяжко мне,
а то легко в груди.
Я знаю, но никак не понимаю,
что молодость осталась позади.
Когда?
На перекрестке,
повороте?
Никак не вспомню, где расстался с ней.
Наверно, в час ночной
незримый кто-то
в телеге жизни подменил коней...
И вместо норовистых,
жарких,
резвых,
полушальных,
встающих на дыбы,
телегу катит пара очень трезвых...
Куда? Вперед, по колее судьбы.
Вперед не к лету,
в край осенний, хмурый,
где небо ниже, листья все рыжей...
Эй, милые! Зачем плестись понуро?..
Не слушаются лошади вожжей.
Не слушаются,
видно, плох возница,
не помогает даже хлесткий кнут.
Ползут колеса. Не мелькают спицы...
За метром метры —
роковой маршрут.
Нет, в пустоте я не ищу опоры,
но не хочу ползти до той поры.
Я поверну коней. Пусть тянут в гору,
а там —
во весь опор пущу с горы!
Всем судьбам в пику!
Упоенный бегом
и спуском,
хоть опасным и крутым,
помчусь я вновь!
Лети, моя телега,
со мною обновленным,
молодым,
пускай несутся кони,
словно черти,
быть может, не доеду —
разобьюсь...
Я не боюсь
ни скоростей,
ни смерти.
Я старости плетущейся боюсь.
1974
* * *
Течет с березы сок,
струится сок из сосен.
И день, и ночь в горах шумит поток.
Пчела — с летка к цветку
и снова на леток...
К закату лето. Скоро грянет осень...
А я молчу, как будто занемог,
как будто душу запер на замок
и навсегда стихи писать забросил.
Что — дерево без сока и в бесплодье?
Что — вешняя река без половодья?
Что — без пыльцы летящая пчела?
Как от сгоревшего костра зола,
ненужно и мертво и то, и это...
Так что ж тогда молчанье для поэта?
1974
* * *
Сосна росла,
сосна цвела,
и вдруг,
под самый дых,
под корень,
ей впилась пила —
и нет ее в живых.
Лежит
прямая как струна,
до веточки обрублена.
К чему, зачем теперь она
без времени загублена?
Мне жаль ее.
Печален взор...
Но вижу:
плотник кряжистый
умело взялся за топор —
и бревна в стены вяжутся,
и дом встает
сосне под стать,
стоять ему столетие.
Рождаться будут, вырастать,
в нем дети, как соцветия...
А если в срок или не в срок
погибнуть нам достанется —
какой от нас посмертно прок
и что живым останется?
1974
* * *
Когда б я был один за то в ответе,
без красных слов, костьми я смог бы лечь,
чтобы зверье и птиц сберечь
на этой обезумевшей планете...
1974
ИЗГНАНИЕ СОВЕСТИ
Такое может лишь присниться
в тиши удушливых ночей:
по черной воле палачей
навек оторван Солженицын
от кровной Родины своей.
Его бы с радостью казнили,
сожгли, развеяли бы прах.
Но всемогущее насилье
внезапно замерло в бессилье:
остановил насилье — страх!
О нет, не пред своим народом:
запуган он и безъязык.
Века не знающий свободы
под этим мрачным небосводом
властям перечить не привык.
Не раз прореженный жестоко
то ГПУ, то КГБ,
по сути смелый и широкий,
под хищным полицейским оком
замкнулся он в самом себе.
Его давил сапог тирана,
под дых железный бил кулак,
его сынов, согласно плану,
безвинных гнали на закланье
на тот архипелаг ГУЛАГ,
где мучились не единицы,
а полумертвых легион,
нещадно битых, бледнолицых...
И среди них был Солженицын,
и так же горе мыкал он.
...И сын Руси надел вериги.
Его клокочущие книги,
сверкая, обнажили зло,
насилья мерзкое обличье
и ужасающим оскал.
И хлынул свет за пограничье.
Пред миром, в жертвенном величье,
писатель Солженицын встал.
За правду, за разоблаченье
суров верховный приговор,
в печати — злобное гоненье,
завыл в зверином исступленье
ничтожных подхалимов хор.
Был посрамленью и наветам
«придворными» подвергнут он,
и очернен, и оклеветан.
Близка беда по всем приметам.
Арест... конвой и... за кордон!
Изгнанье! Кары горше нету!
Однако жив он, не убит,
и имя честное над светом
неуходящею кометой
как символ совести горит.
И ни к чему в продажном стане
Еще от автора Александр Владимирович Соболев
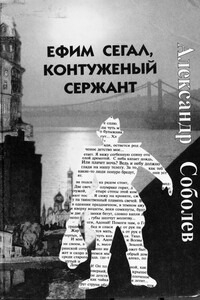
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.