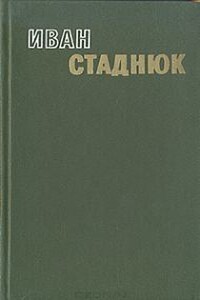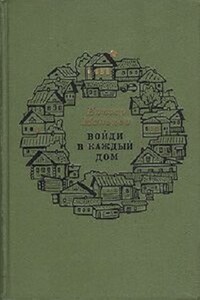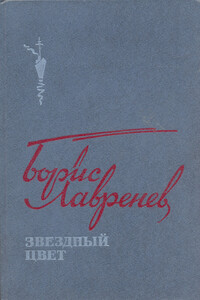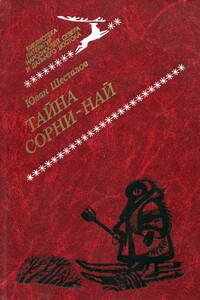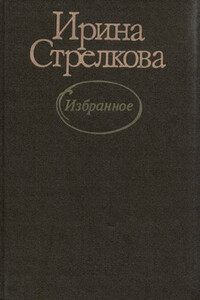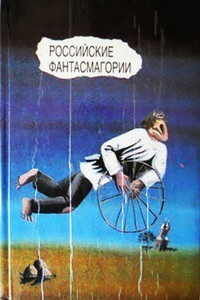— Нет, не знаю.
— Ну вот, он сказал: «Ты, — говорит, — одна не сиди, а подсядь к мальчикам. Они бойчее учатся, а ты не очень соображаешь. — Говорит: — Ты подглядывай за ними краешком глаза, потом и сама будешь знать, а то, говорит, — ты зазря в школу проходишь…»
Час с лишним ушло на составлении списка одиннадцати учеников. Наконец, покончив с этим делом, Микулеску рассадил их по партам, восстановил тишину.
— Удачу вашей ниве!
— И вам тяжелый сноп.
— Вы хоть знаете, кто написал эти стихи?
Карие, черные и голубые, еще карие, еще черные — все эти глазки смотрят не мигая, готовые в любую минуту заплакать или улыбнуться.
— Александри написал, вы, дурачье! Великий румынский поэт. Поэт крестьянства.
Микулеску несколько раз прошелся между партами, дав им время проникнуться чувством священного восхищения к творчеству Александри, а им хоть бы что! Зевают, толкают друг друга, следят, как забилась муха на подоконнике. Старые, видавшие виды домотканые рубашонки. Грязные ноги, ссадины на каждом пальчике. Некоторые припрятали эти богатства, завернув тряпочками, другие оставили так, на божью милость.
А собственно, стоит все это или не стоит?
Микулеску встал у окна, долго примеривался, чтобы открыть его, но, видать, окна в этой школе можно было открывать, только предварительно сняв крышу.
— А вы, господин учитель, кулаком пристукните. Вдарьте вот так кулаком…
Микулеску ударил, и окно открылось; он устало облокотился на подоконник, разбирая ту же самую проблему, которая мучила его все время, с тех пор как приехал сюда. Стоит ли, не стоит? Стоит ли ему, человеку, не окончившему еще нормальное училище, старшему сержанту, участнику героической битвы при Мэрэшти, стать нянькой, мучителем этих одиннадцати карапузов? Маленькая, забитая деревушка, старая школа с дырявой крышей, одиннадцать сопляков, зевающих вовсю, когда он им читает стихи великого Александри.
Его охватила первая, самая большая грусть после отъезда. А ведь начал было пользоваться успехом у бухарестских барышень. Хранил три любовные записки, написанные на французском языке и брошенные ему из окна второго этажа женской гимназии. Он тосковал по книжным магазинам, полным чудесных романов серии «Знаменитые женщины». Соскучился по разнаряженным городовым, по господам, носящим цилиндры и ругавшим правительство, не делая при этом грамматических ошибок. Ему захотелось снова в студенческую среду, у него родилось вдруг столько мыслей, относящихся к творчеству Александри.
— А у меня, господин учитель, еще два братика. Когда они расплачутся в люльках, а мама месит тесто и не может к ним подойти, тогда отец сам качает люльки и поет при этом:
Несутся ветры волнами,
Над гнездышком моим…
— Что-что-что? — спросил учитель. — А ты знаешь эту песню до конца?
— Конечно, знаю.
— Спой.
Нуца спела. Учитель стоял пораженный, он ушам своим не верил. У него было врожденное чувство поэтического слова, он был большим знатоком ритмики, поэтики народного стиха. Ему и в голову не приходило, что в этих домиках, в этой деревушке со странным названием Чутура могут жить стихи такой прозрачности, такой первозданности. Это были истинно народные стихи, о которых он, большой знаток фольклора, даже и не подозревал. Кто знает, может, они вот в этих самых домиках, в эти вот дни родились, а если это так, то что может быть выше для ценителя народной поэзии, чем присутствовать при рождении стиха, быть свидетелем того лингвистического брожения, в котором слово со словом встречаются и идут под венец и, венчанные народным поэтическим гением, остаются навеки вместе?
Вдруг толстяк Тудораке вскочил со скамьи и мелкими шажками засеменил к выходу.
— Ты куда?
Тудораке, низко опустив голову, пролепетал!
— Домой.
— С какой целью?
— Что вы сказали?
— Зачем, говорю, идешь домой?
— Помочиться.
Остальные десять сидят на своих местах, как ни в чем не бывало — что ж, это в порядке вещей, чтобы живой человек время от времени… Но тут Мирча поспешил предупредить своего двоюродного братика:
— Пошлют гусей пасти.
Бедный Тудораке широко открыл глаза, приоткрыл рот, да так и замер. В самом деле, пошлют гусей пасти, и тогда все пропало. А без школы, все вон говорят, что никуда. Поразмыслив, он печально побрел на свое место.
— Что же ты, идешь — не идешь?
— Уже неохота. Уже всё.
Бог ты мой, подумал Микулеску, кто может сказать, что знает народ, что видел его своими глазами, слышал его речь, понял его душу…
— А писать взяли с собой что-нибудь?
Ника, сын Умного и, главное, наиболее самостоятельного чутурянина, продемонстрировал, к общей зависти, новый букварь, тетрадку и половину карандаша. Оба Морару набили карманы фасолью, потому что, сказали им дома, это нужно, чтобы научиться считать. У Нуцы был кусочек резины, отрезанный самим Карабушем от старой калоши, — он ей сказал, что этой резинкой ей там придется стирать, что не так напишет, а большего он ей ничего не говорил…
Учитель взял мел, написал на доске: «Ученье — свет, неученье — тьма».
— Может кто-нибудь из вас прочесть, что я на доске написал?
Увы, это было им не под силу.
— И ты, Ника, не можешь?
Увы, и он, потому что, хоть его отец и прослыл в селе за Умного, грамоты он, конечно же, не знал.