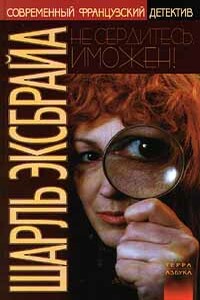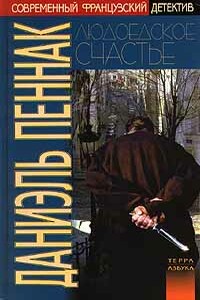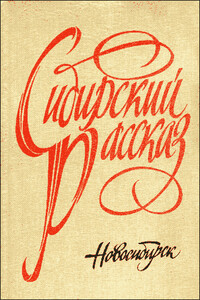…Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?
Иоанн 4/9
Осенью сорок пятого получена была директива приступить к ликвидации монастырей. На юге Молдавии решили начать с мужских, на севере предпочли женские. Вернее, остановились на Трезворах. С самого раннего утра мешки с мукой, индейки, бочонки, кошелки, подушки, цветастые домотканые дорожки все это было поднято на разные уровни, все это расходилось в разные стороны, но на одинаково высоких скоростях.
Быстрота и продуманность свершаемого беззакония парализовали всех. А когда наступил час раздевания храмов и сжигания священных книг, когда начали выгонять скот и вывозить недвижимость, когда бойкая дружина, охмелевшая не столько от выпитого вина, сколько от сладкого хмеля разрушения, гонялась по всему двору за молодыми монашками, предлагая руку и сердце, когда обезумевшие от ужаса старые девы крестили друг друга, прощаясь меж собой, потому что увозили их партиями на разных машинах в разные стороны, к игуменье монастыря, тихой, больной старушке, доведенной в тот день до полного исступления, сквозь весь этот шум и гам пробралась молоденькая девушка лет семнадцати из соседней деревни и тихо сообщила, что накануне ей приснился ангел.
Слово «ангел» подействовало на игуменью отрезвляюще. Она все время находилась в ожидании знамения небес, каких-то посланий свыше. Придя в себя, утихомирив, насколько это было возможно, скорбь своих дочерей, отыскала какой-то закуточек, пригодный для беседы вдвоем.
— Ну, и что он тебе такого поведал, девочка?
— Сказал: оставь родительский дом и иди в монашки.
— И только-то! Твой ангел небось думает, что все это можно свершить за один день, даже за одно утро!
— А почему нельзя?
— Душечка, для того чтобы постричься в монашки, надо по крайней мере несколько лет пробыть в послушании…
— Ну, возьмите хоть послушницей.
— Да куда мы тебя возьмем, когда вон нас самих увозят!
— Что же мне делать?
— Помолись Пречистой, поблагодари за светлый сон и забудь об этом. Ты молода, красива, теперь вон парни ваши начинают возвращаться с войны. Выходи замуж, рожай детей и забудь о нашем горе.
— Нет, — сказала девушка. — Мне ангел поручил прийти к вам и прожить жизнь при монастырских родниках, подобно той доброй самаритянке, у которой спаситель некогда попросил пить…
— Ну, — сказала игуменья в раздумье, — родники, вон они, в ущелье. Если будет время и охота, можешь за ними и присматривать…
— Но чтобы мне это хорошо исполнить, надо, чтобы меня кто-нибудь туда поставил. Накажите строго-настрого, что мне тут исполнить, и подарите камилавку, так, чтобы я, подобно другим монашкам, носила ее на голове. Не беспокойтесь, я буду ее носить с достоинством и не опорочу имя нашей славной обители.
— Господи, — сказала игуменья, — дался тебе этот чепчик! Да из-за него тебя, чего доброго, сунут в какую-нибудь машину и увезут вместе с нами.
— Не увезут. У меня два брата были на войне. Один погиб, другой вернулся. Подарите мне, пожалуйста, камилавку.
— Да ты к тому ж честолюбива, дочь моя!
— Я забочусь не столько о себе, сколько о вас. Оставляя меня тут в камилавке, вы сможете уехать со спокойной совестью, зная, что не бросили монастырь на произвол судьбы, что тут остался свой человек, который в случае чего всегда сможет и присмотреть, и поберечь…
— Да что беречь, дочь моя, за чем присматривать?!
— А эти два храма? А кладбище, на котором много достойных людей похоронено? Опять же три родника.
— Да что ты все носишься с родниками!
— Ну, как же… Дело ведь не только в том, что обитель наша переняла от них свое имя, она вообще своим существованием обязана тем родникам. И, не желая вас никак обидеть, я по простоте своей полагаю, что и после вашего отъезда вода в тех родниках будет такая же прохладная, целительная, святая…
Говорят, на этих словах игуменья обняла ее, поцеловала, сняла с головы собственную камилавочку, надела девушке, своими руками повязала тесемки под подбородочек. Этим она как-то совершенно пришла в себя. Воспрянув духом, нашла предводителя гулявшей по монастырю ватаги и заявила, что они с сестрами не покинут монастырь, если им не будет позволено еще раз собраться в главном храме, с тем чтобы проститься с алтарем и колоколами. Говорят, на тот последний монашеский молебен была допущена и та семнадцатилетняя девушка, причем, говорят, игуменья держала ее все время подле себя.
Но, конечно, легенды отличаются тем, что одни в них верят, другие нет. Тем более что со временем говоруны, претендующие на исключительную осведомленность, стали утверждать, что все это выдумки богомольных старушек. При ликвидации монастыря та девушка, говорили они, прибежала вместе с другими в надежде на красивый коврик, но, добравшись слишком поздно, когда все уже было расхватано, нашла в какой-то келье валявшуюся старую камилавку, стряхнула с нее пыль, надела на голову и уже после этого стала рассказывать о якобы приснившемся ей ангеле. С игуменьей она не могла встретиться по той простой причине, что старушка, будучи на пределе умопомешательства, извергала из себя такие проклятия, что ее увезли первой, на рассвете, еще до начала ликвидации.