Босой - [198]
– Наверно, у попа Раду борода рыжая была?
– Рыжая. Кабы не рыжая, я бы за него и замуж не пошла. Этим меня и завлек. А то бы я лучше за попа Илие вышла, из Урлацы. Тот и до сих пор живет-поживает, похаживает да черную бороду поглаживает. Помирать не торопится, не то что мой Раду-неудачник.
– Мама!
– А что? Не так? Поп Илие не живет, не похаживает? Живет-похаживает! Черную бороду не носит? Носит! Все так!
Я рассмеялся. Бабка тоже улыбнулась. Что бы ни слетало с ее языка, была она вовсе не злая женщина. Бедность мучила ее и раньше, а после смерти Раду и того пуще. Вырастить шестерых, да сколько лет за ученье платить… Тяжкий труд для слабой женщины. Брат рассказывал отцу:
– Тяжко. Совсем невмоготу стало, тятя. Как тут проживешь? Сорок лей в месяц. Вот и вся выручка. Да и жена тоже сорок лей зарабатывает. Дети родились один за другим. Да еще и теще помогаем. Село бедное. Иной раз из того малого, что сам имеешь, еще и другим пособлять приходится – то одному, то другому. Люди ведь знают, что ты жалованье получаешь, рясу носишь, жена в приличном платье ходит, вот и думают, что мы народ состоятельный. Я и впрямь состоятельней любого в селе. Вот и идут – то мужик, то баба: дай, батюшка, две леи взаймы. Есть деньги, нет денег – ищешь и даешь. А то и с другой просьбой обращаются: одолжи, батюшка, решето муки. Есть ли, нет ли, а дать надо, все равно не поверит. Дай одному, дай другому. Получаешь одной рукой, отдаешь двумя…
– А на вышки народ не ходит работать? Вышки-то рядом.
– Кое-кто работает.
– И не зарабатывают?
– Почти ничего. Вся выручка хозяевам идет. Иногда мне хочется проклясть тот день, когда я решил пойти учиться. Может, если бы не выучился грамоте, не научился бы и думать и был бы счастливей…
За столом тесно. Хлеб и щи всем поровну. Ели застенчиво. Словно от самого братнина тела откусывали.
– Поехали домой, тятя.
– Поехали, Дарие. Только на что? В поезд без билета нельзя…
Брат куда-то сбегал и достал нам денег на билеты. С тем же извозчиком отвез на станцию. И простился с нами. Еще раз мы увиделись с ним лишь много, очень много лет спустя.
Мы прибыли на Северный вокзал. До отхода поезда оставалось еще больше часу.
– Пойдем, Дарие, покажу город.
Миновав вокзал, мы двести-триста шагов прошли по Каля Гривицей. Было туманно, сыро, грязно. Люди торопливо бежали по улицам, поеживаясь от холода. Хотя до обеда было еще далеко, в узких темных корчмах с большими запотевшими окнами слышалась музыка…
– Здесь люди средь бела дня развлекаются, хоть и не праздник…
– Пьянчужки какие-нибудь. Не гляди на них, Дарие. Может, им еще хуже нашего живется.
Кучка людей – мужчины, женщины, дети, босые и оборванные, так что сквозь рванье виднелась кожа, – грелись в крытом переходе возле маленькой пузатой печки, от которой валил дым. Какая-то женщина, укутанная в лохмотья, щелкала щипцами и во все горло орала:
– Каштаны! Покупайте каштаны! Жареные каштаны!
Около нее никто не останавливался…
– Пойдем на станцию, тятя. Как бы на поезд не опоздать…
И мы пошли на вокзал.
Вот какие образы и впечатления сохранились у меня от первой, мимолетной встречи с предместьем Бухареста.
Но это был еще не Бухарест…
В моем воображении город был удивительно сказочным, полным тайн, которые мне хотелось и предстояло познать…
Теперь я снова, очутился в предместье Бухареста.
Завтра я войду в город.
Войду вместе с победным восходом летнего солнца.
А сейчас мне чудился голос, звавший и соблазнявший меня:
– Приходи, Дарие… Приходи и взгляни на этот удивительный город…
Совсем рядом слышались шаги немецких патрулей.
ЗАХАРИЯ СТАНКУ
(1902-1974)
(биографическая справка)
Один из популярнейших современных румынских писателей, прозаик, поэт и публицист, лауреат Государственной премии, З.Станку родился в деревне Салчия (степной район на юге Румынии) в бедной крестьянской семье. Нужда заставила его рано покинуть отчий дом. Он много скитался по родной стране и за рубежом. Лишь в 1933 году он смог получить филологическое образование.
Дебютировал в начале 20-х годов как поэт и публицист в газетах и журналах. В первом поэтическом сборнике Станку «Простые поэмы» (1927) органически сочетались лиризм и гражданственность, это характерно и для позднейших его сборников: «Разрыв-трава» (1941), «Дымовые годы» (1944), «Лебединая песня» (1973), «Лунные поэмы» (1974) и др.
В конце 30-х – начале 40-х годов Станку редактировал периодические издания «Лумя ромыняска» и «Азь», на страницах которых выступал с разоблачением румынского фашизма, за что был заключен в румынский концлагерь в Тыргу-Жиу. Наблюдения той поры завершили его политическое образование, о чем свидетельствует книга «Лагерные дни» (1945).
Славу принес Станку-прозаику социальный роман о деревне «Босой» (1948), ознаменовавший, по оценке критики, начало новой, послевоенной румынской литературы. Роман переведен на многие иностранные языки.
Позднее писатель публикует ряд романов, среди них: эпопея «Горькие корни» (1956 – 1959), «Безумный лес» (1963), «Как я любил тебя» (1968), «Ветер и дождь» (1969) и др., в которых рисует широкую картину жизни румынского общества первой половины нашего века.
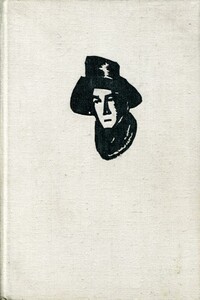
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
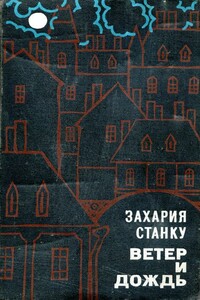
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
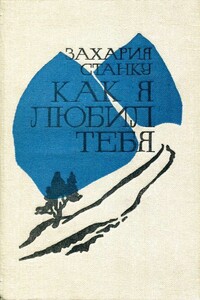
Захария Станку (1902—1974), крупнейший современный румынский поэт и прозаик, хорошо известен советскому читателю. На русский язык переведены его большие социальные романы «Босой», «Ветер и дождь», «Игра со смертью» и сборник лирики «Простые стихи». Повести и рассказы раскрывают новую грань творчества З. Станку, в его лирической прозе и щедрая живописность в изображении крестьянского быта, народных традиций и обрядов, и исповедь души, обретающей философскую глубину.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
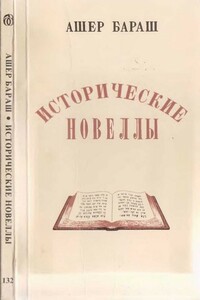
Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.
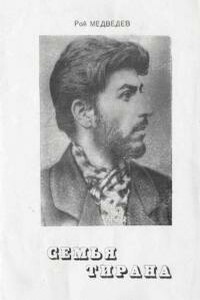
Я хотел бы в этом очерке рассказать не о крупных событиях и не о роли сталинизма, а о некоторых совсем, казалось бы, мелких событиях, протекающих поначалу в небольшом грузинском городе Гори еще в конце прошлого века. Речь пойдет о детстве и отрочестве Сталина и о его родителях, в первую очередь о матери Иосифа - Екатерине Джугашвили. Мы знаем, что именно события раннего детства и отношения с родителями определяют во многом становление личности каждого человека.
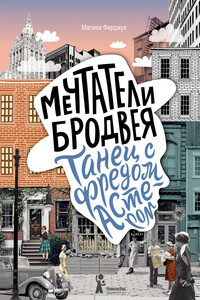
Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.