Безумие - [59]
Витя полз к музыке. В аду живой оставалась она одна.
Он догадался: музыка и есть свобода, и до нее надо доползти, обязательно доползти.
Он подполз к двери трюма и уперся в нее головой. Ему в спину вцепились острые зубы. Ему удалось вытолкнуть из себя настоящий крик. Он его услышал. И его услышали.
Дверь палаты буйных отворилась. Тощая стояла на пороге, сонно моргала. Терла лицо костлявой рукой. Халат расстегнут. Платье сбито набок. Спала в ординаторской в одежде, кушетку шубой застелила. Господи! Опять эти буйные! Так и знала! Что вытворяют!
Нахватала ночных дежурств, так будь добра, трудись. Завтра утром придет твоя милая, твоя хорошая, твоя теплая вкусная ватрушка. Ах, какая вкусная! Единственный в мире человек, который ей нужен. Да вот она не нужна ни ей, никому. Впору хоть сюда ложись. И в эту палату. Прямо, прямо в эту. Чтобы все забыть. Забыть ту вздувшуюся под жгутом вену. То лицо, испитое, белое, просящие, жадные, жалкие глаза. Сугроб лба. Льды щек. Нежность и всепрощение небесных радужек. Ту последнюю судорогу, когда она, Тощая, ввела ей лошадиную дозу морфия и глядела, как в наслаждении покоя застывают искривленные мукой руки, как на закинутом лике белая зимняя кисть рисует счастье, только счастье, лишь его. Она убила человека, избавив его от мук. Подарила ему счастье. Чудо, что ее не засудили. А этих? Может, и этих всех она бы – если б ее воля – разом – под ту, с морфием, длинную иглу?
Всех – за одну ночь. И все счастливы. И никогда больше…
– Больной Афанасьев!
Витя не слышал. Забился под кровать. Выглядывал оттуда, как из траншеи.
Буйные слонялись по палате. Махали пустыми рукавами пижам. Один дрожал в смирительной рубахе. Другой стоял на подоконнике, слепо водил руками по стеклу. Вдруг размахнулся и ударил кулаком. Стекло не выдержало. Пошло трещинами. Осколок вывалился на пол. Мужик изумленно разглядывал свой окровавленный кулак. Вертел его перед носом. Захохотал.
Тощая подобралась, как для прыжка. Она уже совсем проснулась.
– Маша! Ростовцеву двойную нейролептиков. Возьми любые, какие есть. Никифорова, Краско пусть ребята к койкам привяжут. Дементьеву смирительную сорочку. Афанасьеву… это Афанасьев? Или кто другой у нас?
Витя трясся.
Руки под подбородком странно держал, как напуганный заяц – обвисшие лапы.
– Афанасьев, Таисия Зиновьевна.
Сестра стояла прямо, солдатом на плацу. «Как и не дрыхла, чертовка молодая».
– Афанасьеву – аминазин!
– Может, валиум?
– А может, я тут врач, а не ты?
Витя, склонив набок мелко дрожащую голову, будто прислушивался к далекой музыке, слушал стук каблуков дежурного врача по половицам коридора.
Уколы делали свое нелегкое дело. Таблетки трудились. Белая горячка отходила в сторону. Ничто затаилось. Корабль плыл медленно и важно, и Витя уже приловчился слышать его дрожание, ритм его двигателей, сотрясения моторов и маховиков. Иногда ночью заявлялась Стрекоза. Вращала фасеточными радужными глазами. В глубине планетных шаров просвечивало золотое ядро. Витя хотел коснуться выпуклых гигантских глаз кончиками пальцев, но не смел; ему казалось – Стрекоза обидится, ей будет больно и неприятно, и она больше не придет никогда.
Вепрь тихо спал на своей койке. Он оказался очень толстым, не умещался на матраце, и ему к койке подставляли два стула, чтобы он не сваливался на пол.
Был еще волк; той, первой ночью он выл так громко и неистово, что залепил уши Вити воском отчаяния. А теперь волк прекратил вытье. Он лежал мордой вверх, и она подозрительно смахивала на лицо человека. Только нос необычно вытянут вперед; ловко под человека замаскировался, ну да такие все они, лесные жители.
Витя днем вел себя тихо. Ночью вставал и шел куда глаза глядят. Корабль такой большой, и его так качает, а он такой маленький матрос, его никто не заметит. А ему хочется, как первому помощнику капитана, стоять на мостике и смотреть в призменный бинокль. Что вдали? Айсберг? Чужой крейсер? Земля? Дрейфующие льды?
Шел смирно, понурившись, никого не задевал, никому не досаждал. Смиренный, тишайший, с легким, то беззвучным, то чуть шаркающим шагом. Сбрасывал больничные шлепки; шел по коридору босиком, держась за стены, как слепой, и постовая сестра понимала: вот больной идет в туалет, – и равнодушно зевала, прикрывая рот половником согнутой ладошки.
Шел бережно, осторожно. Выверяя шаги. Нащупывая носком непрочную, неверную палубу. Палуба, она как женщина-истеричка: то тихенькая, то закачается, забьется и так закачает тебя, что только держись. Но тихо, верно шел Корабль, чуть потряхивался корпус ледокола от внутренней неслышной вибрации, и сюда, на палубу, не доносились шумы машинного отделения: переборки, металл и жесть скрывали их, таили, прятали.
Кого он искал в ночи? Он искал Маниту. Он знал: здесь она. Еще когда его брали за шкирку санитары и впихивали в странную горбатую машину, безбожно, больно задвигая кулаками ему то под ребра, то под лопатки, он услышал, как внутри машины переговариваются врачи. А может, врач и санитар. А может, врач и шофер. Мужской густой голос, должно быть, врачебный, такой уверенный и безошибочный, и научные слова знает, весомо изронил: «Третьего художника за этот месяц к нам везем. Скоро Третьяковскую галерею откроем». А подобострастный голосок, угодливо извиваясь, сбоку откуда-то вынырнул, заюлил: «Вот смех-то! Вот юмор! И что это они все, бедняжки, враз с ума посходили?! Они, должно быть…» Басовитый тяжелый, начальственный голос перебил угодника: «Да ничего не должно быть. Просто обыкновенные запои. Алкоголиков развелось – пруд пруди. Хоть мостовую вместо булыжников ими выстилай. У нас уже одна палата для делириумных есть. Пора еще две открывать. А места нет. Моя бы воля, я бы их всех…» Замолк. Юлящий голосок выждал паузу, опять зачастил: «Ну да, да! Всех бы – к ногтю! Всех бы – в расход! И страна бы наша от дерьма очистилась!» Басок хохотнул. «А может, лучше бы в расход не пьяниц, а завод шампанских вин?» Дальше тряслись в брюхе машины молча.

В танце можно станцевать жизнь.Особенно если танцовщица — пламенная испанка.У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий — наемный убийца, который покорил сердце современной Кармен.А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям — без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима…Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое — жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной, опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов — и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь — стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги — римейка бессмертного сюжета «Кармен».

Что это — странная игрушка, магический талисман, тайное оружие?Таинственный железный цветок — это все, что осталось у молоденькой дешевой московской проститутки Аллы Сычевой в память о прекрасной и страшной ночи с суперпопулярной эстрадной дивой Любой Башкирцевой.В ту ночь Люба, давно потерявшая счет любовникам и любовницам, подобрала Аллочку в привокзальном ресторане «Парадиз», накормила и привезла к себе, в роскошную квартиру в Раменском. И, натешившись девочкой, уснула, чтобы не проснуться уже никогда.

Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

Ром – русский юноша, выросший без родителей. Фелисидад – дочка прекрасной колдуньи. Любовь Рома и Фелисидад, вспыхнувшая на фоне пейзажей современной Латинской Америки, обречена стать роковой. Чувства могут преодолеть даже смерть, но им не под силу справиться с различием культур и национальностей…
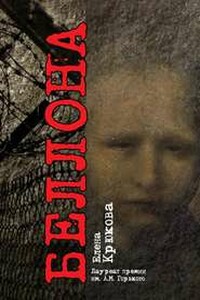
Война глазами детей. Так можно определить объемное пространство нового романа Елены Крюковой, где через призму детских судеб просматриваются трагедии, ошибки, отчаяние, вражда, победы и боль взрослого мира. "Беллона" - полотно рембрандтовских светотеней, контрастное, эмоционально плотное. Его можно было бы сопоставить с "Капричос" Гойи, если бы не узнаваемо русская широта в изображении батальных сцен и пронзительность лирических, интимных эпизодов. Взрослые и дети - сюжетное и образное "коромысло" книги.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.
