Безумие - [27]
Обернулся на шорох. Сзади стоял Федька Свиное Рыло. Беззвучно хохотал.
После вечерней поверки Федька приказал черноглазой идти за ним.
Наутро черные, опушенные густейшими ресницами глаза выклевали хищные гагары.
Дед пошел драться с Федькой. Федька убил его из нагана.
В бараке, обливая Бенькин затылок горячими слезами, тетка Душка, бывшая питерская прачка, вытащила из-за пазухи зеркальце с янтарями и сунула в руки Беньке. Держи! Дедушка мне передал. Чтобы я – тебе – передала! Чтобы… помнил…
Бенька поцеловал янтари. Сознание потерял.
Его отливали холодной водой.
Он долго играл в зеркало, как в игрушку, а потом его нагло отнял вохровец Яшка, подбросил на ладони и цыкнул зубом. Оценил. В карман стеганки упрятал. И больно пнул Беньку во впалую грудь.
Расти. Все равно вырасти. Как ягель в тундре. Как мох на камнях.
Носить имя деда.
Ночами он гляделся в серебряную, черную амальгаму неба, сквозь разбитый, решетчатый скелет купола. Церковь, его тюрьма. Небо, его зеркало. Он кашлял осенью, харкал кровью зимой, и бредил, и плакал, и забыл свою фамилию. И добрая Душка кормила его испеченной в горячей золе навагой, без соли. Слезами солила.
Медную, вкусную рыбу вырвали у него из зубов.
Он все-таки упал.
Лежал и дрожал.
Федька Свиное Рыло подошел, пнул его сапогом и выплюнул ему в затылок:
– Кирпич дырявый!
Им не стали затыкать ни пробоину в лодке, ни свистящую щель в бараке.
И на обед чекистке не поджарили тоже.
Федька всласть избил его ногами, выкатил сапогом на бывшую храмовую паперть. Белое солнце переливалось над морем богатой жемчужиной в кислом уксусе рассвета.
Ночь просидели. Руки онемели. Лбы застыли. Считай, поспали.
Людям приказали спрыгнуть с насеста, и они прыгать не могли, попадали картошкой из мешка, кто голову разбил, кто ногу вывихнул. Валялись, черные дрова.
Потом уползли. Беньку за ноги в барак оттащила старуха Люля.
Волокла и молитвы читала. Про Иисуса Христа.
Внизу, под Секиркой, привязанное к бревну тело Корнелии Дроссель ласкала певучая льстивая вьюга, меццо-сопрано.
Доски. Сети.
Сети и доски.
Бенька крепко держит иглу. Штопает дыры в сетях.
Артельщики гладят его по голове. Волосы курчавые, наполовину седые.
Эх, седой малец! Небесные очи! Худой ты уж очень.
А завтра к нам пролетарский Горький прикатит. На всех парах! На старой доре!
В Муксалму прибудет?
Пес знает. Может, в Ребалду.
Нас погонят встречать?
Как пить дать! И, руку на отсечение, два пайка дадут! И кто в исподнем – в порты и фуфайки нарядят! Чтобы приличные мы были. Смиренно мычали. Скоты Совецкой страны!
Бенька в бараке складывал руки в виде зеркальца, смотрелся в ладони, видел себя. Люля дала ему пососать ржаную корку. Он сначала держал корку во рту, приказывал себе: соси, соси, – а потом сразу проглотил и чуть не подавился.
Пролетарский Горький приезжал завтра.
А сегодня уже завтра или еще сегодня?
Как орала старая Люля! Она сделала себе саморуб.
На работах – топором – палец указательный себе отрубила.
Такое на Островах часто бывало. Народ мыслил так: порублю себя, и отправят в лазарет.
Люлю ни в какой лазарет не отправили. Лазарета просто не было тут – для них, скотин.
Люля лохмотьями культю замотала. Нянчила руку, как ребенка.
Люлю из ложки свекольной похлебкой кормила товарка. Люля беспомощно, благодарно трясла, как старая лошадь, вьюжной сивой, жалкой головой.
А у начальницы был врач; личный врач.
Официально он числился лагерным доктором; ходил как тень; и никто не знал, как его звали, и никто никогда не обращался к нему, и он ни на кого не глядел. Пробегал мимо людей, как мимо чумных. Бубонная оспа, черная чума. Шизофренический шуб. Бред, паранойя в расцвете.
Никто не знал: он сослан сюда. Такой же раб, как все они.
Лицо-тень. Пальцы-сухая-трава. Не пальто – крылья мыши летучей.
Это он, человек-плесень, прокричал на рассвете, как просвистел в хриплую дуду:
– Всем у конторы собраться! Максим Горький едет!
С Муксалмы да на Анзер. Пароход видели все. Он густо, сажево дымил толстой, в три обхвата, трубой. На берег по трапу сошел: высокий, на затылке кепка. Рядом семенит девка, вся в кожаном: на плечах кожанка, перчатки кожаные, кожаный летчицкий шлем, кожаные до колен сапоги.
Народ топтался у крыльца конторы. Горький шел чуть вразвалку, вроде моряка, кожаная за ним. Взобрался на крыльцо. Воскликнул слабо, высоко, голос дал петуха:
– Здравствуйте, товарищи!
Народ молчал.
Не знал, что в ответ прокричать.
Горького с дороги – покушать увели. Кожаную с ним.
Бенька стоял возле крыльца, переминался босыми ногами. Все тело ломило и ныло. Левая рука в локте не гнулась. Артельщики за его спиной погано, смачно плевали на землю.
И што… Прибыл… Перед его носом – щас флагами помашут! И до отвала треской насатырят. Или селедочкой. Малосольной. Писа-а-а-атель… што накропает-то про нас… А ты ево читал? А я нет. А я – читать не умею! Мне все едино!
Длинная, путаная сеть. Жжет пальцы.
Сапожная огромная, ежовая игла снует туда-сюда. Мысль снует.
Пойти подстеречь. Спрятаться под крыльцом. Его с кожаной, небось, спать у начальницы в доме положат. На сколько он сюда? Может, завтра уж отчалит. Надо спешить.
Веревки сети обвивали горячие пальцы. Мысли мешались. Глаза запутывались, бились в рыбьей тюрьме. Бенька кусал и сосал свои губы, и так внушал себе, что ест и пьет.

В танце можно станцевать жизнь.Особенно если танцовщица — пламенная испанка.У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий — наемный убийца, который покорил сердце современной Кармен.А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям — без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима…Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое — жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной, опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов — и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь — стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги — римейка бессмертного сюжета «Кармен».

Что это — странная игрушка, магический талисман, тайное оружие?Таинственный железный цветок — это все, что осталось у молоденькой дешевой московской проститутки Аллы Сычевой в память о прекрасной и страшной ночи с суперпопулярной эстрадной дивой Любой Башкирцевой.В ту ночь Люба, давно потерявшая счет любовникам и любовницам, подобрала Аллочку в привокзальном ресторане «Парадиз», накормила и привезла к себе, в роскошную квартиру в Раменском. И, натешившись девочкой, уснула, чтобы не проснуться уже никогда.

Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.
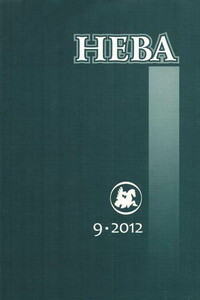
Название романа Елены Крюковой совпадает с названием признанного шедевра знаменитого итальянского скульптора ХХ века Джакомо Манцу (1908–1991), которому и посвящен роман, — «Вратами смерти» для собора Св. Петра в Риме (10 сцен-рельефов для одной из дверей храма, через которые обычно выходили похоронные процессии). Роман «Врата смерти» также состоит из рассказов-рельефов, объединенных одной темой — темой ухода, смерти.

Ром – русский юноша, выросший без родителей. Фелисидад – дочка прекрасной колдуньи. Любовь Рома и Фелисидад, вспыхнувшая на фоне пейзажей современной Латинской Америки, обречена стать роковой. Чувства могут преодолеть даже смерть, но им не под силу справиться с различием культур и национальностей…

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.
