Бешеный волк - [25]
Мутного и холодного.
К берегу он вышел не случайно, хоть и был этот берег чуть в стороне от тропы – раздумывал – заночевать ли здесь или уж идти в темноте до самой фактории, до которой было еще с десяток километров. И сухая лесина к костру могла бы решить его сомнения.
Лесина в сажень длиной нашлась, и Зосима сбросил мешок на прибрежную гальку. Размял затекшие плечи, не присев стащил с себя сапоги и вступил в холодную быструю воду, ощущая приятный зуд.
Потом зачерпнул воды с песком со дна, слегка поскоблил мятое железо, ополоснул его, и вновь зачерпнул уже чистой прозрачной воды, посмотрел на уходящее к Тиманскому кряжу солнце, и вновь вернулся к сухой лесине.
Поискал взглядом валежник, и тогда он увидел труп.
Труп.Много всякой всячины встречал Зосима Бабинов в тайге за свою долгую старательскую жизнь – без чего-то четыре десятка лет прошло с того дня, как начал он вольно топтать эту землю. А сколько ему от роду было – так и сам он этого точно не знал.
Радости в его жизни были слишком маленькими, а неприятности слишком большими, чтобы быть заметными.
Паспорт Зосиме выдали в пятьдесят четвертом считывая возраст с метрик, а метрики писались с его собственных слов, да еще на вид. Писались торопливо и виновато, так же торопливо и виновато, как уничтожались амбарные книги с засаленными страницами – списки безличного состава – в которых, будь они целы, возможно, можно было бы отыскать хоть что-то о том, кто он такой.
Да не судьба для судьбы была видно.
– Лет шестнадцать тебе на вид, Бабинов, – так и сказал, стараясь не смотреть Зосиме в глаза человек с орденом «Трудового Красного Знамени» на груди.
И все.
Время было такое, что не каждый, у кого на груди был орден «Трудового Красного Знамени» мог другим людям в глаза смотреть. И то время, когда мальчишке на вид могли дать и шестнадцать лет, и двадцать пять с конфискацией, тоже было совсем недавно.
И пока еще никого не удивляло то, что человеку в сороковом было лет двенадцать, а в пятьдесят четвертом лет шестнадцать; другому начинали удивляться люди. Правда, еще робко.
– Не доедешь ты до России, парниха, – только и сказала ему не знакомая тетка, вручая синюю бумажку на плацкарту и две буханки ржаного хлеба, – Ребра кожу продырявят…
Но Зосима не поехал «в Россию», нечего ему было там делать.
Подобрала жизнь бывшего сына бывших врагов народа, да так, что истерлись в памяти и далекое южное село, и отец-учитель, носивший красный бант по праздникам, и краснощекая матушка, кричавшая с крыльца:
Зоська, Зосенька, иди молочко кушать…
Великая война прошла мимо него стороной. Да и до войны ли было щуплому мальчишке, холодному и голодному, на нарах в бараке с ледяной коркой вместо пола. Знающему, что с утра будет поднят с досок и погнан чистить снег с дороги, по которой потом паровоз потянет грязные, черные вагоны с углем из города со страшным по тем временам названием – Воркута. Знающему, что если не сможет подняться сам, то будет поднят и в штабель брошен, а займет его место кто-то другой, чьей судьбе не позавидуешь тоже.
Впрочем, давно это было. Так давно, что не ясно, как и всплывшее после непонятное и горькое слово «реабилитация». Поносившиеся в воздухе и растворившееся в мареве осенней водяной крошки, постепенно перемешавшейся со снежными хлопьями и охряным дымом самокруток, курившихся у костра.
Может, ломаной была судьба Зосимы. Только не думал он об этом ни тогда, ни сейчас, среди пневмобуров, дизельных драг, геологоразведок, управлений и слов «план» и «прогрессивка». Оставался он одним из не многих осколков старательской круговерти, отнесенной теперь к категории не рентабельных, не артельных «чистильщиков». Но все-таки нужных, какой-то высшей необходимости, не ведомой самим старикам-старателям. Неведомой, как таежная чаща.
Да и то сказать, у каждого из этих осколков когда-то огромного монолита что-нибудь такое за спиной было, что не зналось современными артелями, где и инженер, и спецодежда, и сволочизм – все есть.
Трудно было испугать в тайге Зосиму, уважавшего, но не боявшегося медведя на тропе, способного поспорить с одиноким волком или росомахой, но еще труднее было Зосиму удивить, так, как жизнь его была такой, что учила его ни к чему не привыкать, а, значит, ничему не удивляться.
И все-таки……Это ерунда, что когда впервые видишь мертвого человека, в первый момент кажется, что он просто заснул.
Тот, кого увидел Зосима, был похож на самого настоящего мертвого.
Мертвых Зосима не видел с тех времен, когда живых в тайге было хоть и не много, но все-таки меньше, чем неживых; и теперь мертвяк заставлял думать о том, что может случиться так, что и сам не живым станешь.
Зосима обошел бывшего человека кругом и сразу увидел, что тот совсем свежий, и кровь еще не почернела, а, не попорченная воздухом, проступала красным следом на одежде. И не по себе стало Зосиме.
Он поднял ружье за ствол, потом, зверевато озираясь, отошел в сторону, постоял чуть и, уже не останавливаясь, двинулся в чащу……На рассвете на галечный плес в излучине Кожима приземлился вертолет МИ-8 с четырьмя милиционерами и собакой на борту.
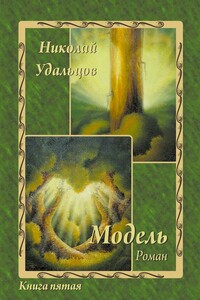
…В этой истории, распавшейся на несколько повествований, я буду говорить не о творчестве, а о мужчине и женщинах. Так что тот, кто увидит в этих историях рассказ о творчестве, поймет меня правильно… Конец каждого из этих рассказов был не вполне приятен и понятен для меня. Но так уж устроена жизнь, что для того, чтобы сделать конец иным, нужно снова начинать с самого начала…

История любви, в которой, кроме ответов на многие вопросы, стоящие перед нами, сфомулирована Российская Национальная идея…

Взгляд на то, какими мы хотели бы себя видеть и какие мы есть на самом деле…В книге дано первое в мире определение любви и сделана попытка сформировать образ современного литературного героя…

История, в которой больше обдуманного, чем выдуманного.Герои, собравшиеся вместе, пришли из прошлого, настоящего и будущего и объеденившись, путешествуют во времени и пространстве в поисках ответов на вечные вопросы, стоящие перед людьми.И – находят эти ответы…
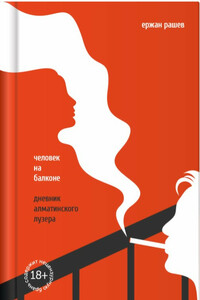
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.
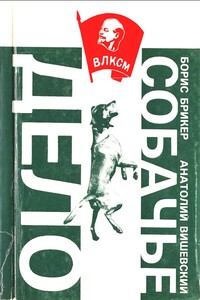
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
