Аввакумов костер - [2]
«Чаю, владыко святый, — утирая камковою тряпицею мокрую от слёз бороду, читал Никон, — хотя и в дальнем ты расстоянии с нами, грешными, но то же скажешь, что отнюдь того не бывало, чтоб его, света, оставить или ссадить с бесчестием...»
— Не бывало, не бывало, ангел ты наш... — бормотал Никон, громко сморкаясь в тряпицу. — Мы с Вонифатьичем, бывало, подумывали старого Иосифа на покой отправить, а у тебя, свет ты наш, и в умах такого не бывало. Потому и молчали.
Скомкал Никон в руке мокрый от слёз и соплей дорогой узорчатый платок и дальше читал уже спокойнее и внимательней.
«А келейной казны у него, государя, осталось 13400 рублей с лишком, а сосудов серебряных, блюд, сковородок, кубков, стоп и тарелок много хороших. А переписывал я сам келейную казну. А если бы сам не ходил, то думаю, что и половины бы не сыскать было, потому что записки нет. Всё бы раскрали. Ни который келейник сосудов тех не ведал. А какое, владыко святый, к сосудам этим строение было у него, государя, в ум мне, грешному, не вместится! Не было того сосуда, чтобы не впятеро оберчено бумагою или киндяком![2]Немного и я не покусился на иные сосуды, да милостию Божиего воздержался и вашими молитвами святыми; ей, ей, Владыко святый, ни до чего не дотронулся...»
В этом, 1652 году Белое море поздно открылось ото льда. Долго, с конца марта, ждали на берегу, молясь и скучая. И апрель прошёл, и май начался, в зеленовато-зыбкие сумерки превратились ночи, а льды ещё стояли на море.
Свободного времени для, Никон строго следил, чтобы вельможные спутники держали Великий пост по всем правилам. Сам доглядал, чтобы излишеств в питании не было. Постом и молитвою томил вельмож Никон всю дорогу до Беломорья и здесь, на море, тоже спуску не давал. Вразумлял с отеческим терпением. Князя Ивана Никитича Хованского за шкирку однажды схватил, когда, утомившись, тот убечь из храма придумал. И с той поры двери в церкви наказал запирать до конца службы, чтоб искуса не было.
И Василия Отяева тоже строжил. Ишь! На нездоровье сослался, чтоб в церковь не ходить! Ай, не ладно удумал. Ну-ка, потихонечку-то подымайся с постели мягкой, вот так, болярин, помаленечку да в храм. Помолишься, сколько сил станет, Господь, глядишь, и избавит тебя от немощи...
Роптали бояре.
Сам Никон слышал, как брюзжал Иван Никитич Хованский — дескать, никогда такого бесчестия не было, чтобы государь бояр своих митрополитам выдавал.
Отяев сочувственно кивал.
— Не говори, князь Иван Никитич! По мне, так лучше нам на Новой Земле за Сибирью пропасть, нежели с Новгородским митрополитом быть. Силою заставляет говеть. Скоро живот к хребтине прирастёт.
Хмурился Никон, такие разговоры слыша. А ништо! Царствие Божие понуждением берётся, это ничего, коли Иван Никитич жирку сбросит маленько. Эвон, два года назад, когда вместях гиль[3]унимали в Новгороде, дак и на коня влезти князь не мог, с Псковом ратиться на телеге повезли. Ништо...
Изредка пересылались с Москвой. Письма государя приходили ласковые, сердечным теплом, а не чернилами писанные:
«От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, великому солнцу сияющему, пресветлому богомольцу и просвященному Никону, митрополиту Новгородскому и Великолуцкому, от нас, земного царя, поклон! — писал государь. — Радуйся, архиерей великий, во всяких добродетелях подвизающийся! Как тебя, великого святителя, Бог милует? А я, грешный, твоими молитвами, дал Бог, здоров...»
Доброго государя Руси Бог послал. Чистым сердцем его наделил и великой верой... С таким царём горы свернуть можно, хотя и докучают ему бояре спесью своей глупой.
Молился Никон, как и просил государь, и за любимицу свою царевну, и за царицу молился, чтобы разнёс её Бог с ребёночком побыстрее, время-то давно спеет...
Ещё длинней службы стали. Ещё горячей молился Никон. Ещё зорче за князем Хованским следил — ишь, как его, глупого, спесь-то корёжит. Ништо. Пускай привыкает. Тело не только жиром заплывает, но и огонёчек веры душит.
И вот в апреле и другая весть из Москвы приспела. Вроде и ожидаемая, а всё одно — неожиданная. Иосиф, патриарх, скончался.
Не раз и не два умылся слезами Никон, читая письмо царя. И не патриарха жаль было. Куды там! Неклюжий пастырь был, попов обирал до нитки — такая жадность обуяла. Но и не это беда. Беда, что встал поперёк дороги и ему, Никону, и духовнику государеву Стефану Вонифатьевичу, и иным ревнителям православия. Ни на какое дело старика подвигнуть нельзя было. А это негоже. Негоже слабому человеку во главе Церкви соборной стоять. Слава Богу, что патриарх сам ушёл... Не надобно теперь хлопотать о его смещении...
Слёзы же текли из глаз Никона от великой любви к государю. Вон какое чистое сердце Господь государю дал — на всякое горе великой любовью отзывается.
И утерев слёзы, снова возвращался Никон к тому месту в письме, где писал государь о выборах нового патриарха.
«А я тебе потом, великому государю, челом бью, возвращайся. И паки возвращайся Господа ради, поскорее выбирать на патриаршество именем Феогноста. А без тебя отнюдь ни за что не примемся...» — писал Никону Алексей Михайлович.
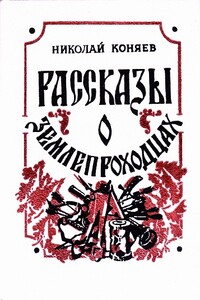
Ермак с малой дружиной казаков сокрушил царство Кучума и освободил народы Сибири. Соликамский крестьянин Артемий Бабинов проложил первую сибирскую дорогу. Казак Семен Дежнев на небольшом судне впервые в мире обогнул по морю наш материк. Об этих людях и их подвигах повествует книга.
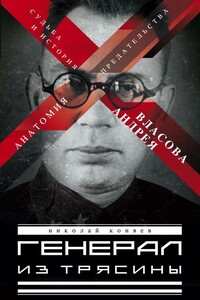
Николай Коняев представляет свой взгляд на историю судьбы генерал-лейтенанта Красной армии Андрея Власова, прошедшего путь от любимца Сталина, сделавшего головокружительную военную карьеру, до изменника Родины.Вас ждет рассказ о Великой Отечественной войне и об одном из самых ее трагичных эпизодов — гибели под Ленинградом 2-й Ударной армии. А также о драматичной истории Русской освободительной армии, сформированной из красноармейцев и офицеров, оказавшихся в немецком плену. Это и рассказ о людях, окружавших генерала.В увлекательной форме, на основе документальных материалов, личных писем Власова и записей из дневников участников событий, автор последовательно создает картину минувших дней.
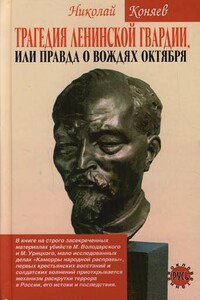
Сейчас много говорится о репрессиях 37-го. Однако зачастую намеренно или нет происходит подмена в понятиях «жертвы» и «палачи». Началом такой путаницы послужила так называемая хрущевская оттепель. А ведь расстрелянные Зиновьев, Каменев, Бухарин и многие другие деятели партийной верхушки, репрессированные тогда, сами играли роль палачей. Именно они в 1918-м развязали кровавую бойню Гражданской войны, создали в стране политический климат, породивший беспощадный террор. Сознательно забывается и то, что в 1934–1938 гг.
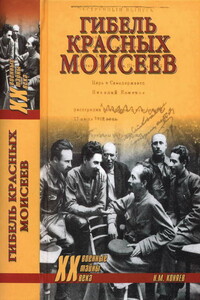
Новая книга петербургского писателя и исследователя Н.М. Коняева посвящена политическим событиям 1918-го, «самого короткого» для России года. Этот год памятен не только и не столько переходом на григорианскую систему летосчисления. Он остался в отечественной истории как период становления и укрепления большевистской диктатуры, как время превращения «красного террора» в целенаправленную государственную политику. Разгон Учредительного собрания, создание ЧК, поэтапное уничтожение большевиками других партий, включая левые, убийство германского посла Мирбаха, левоэсеровский мятеж, убийство Володарского и Урицкого, злодейское уничтожение Царской Семьи, покушение на Ленина — вот основные эпизоды этой кровавой эпопеи.
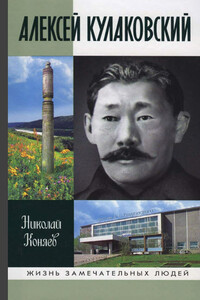
Выдающийся поэт, ученый, просветитель, историк, собиратель якутского фольклора и языка, человек, наделенный даром провидения, Алексей Елисеевич Кулаковский прожил короткую, но очень насыщенную жизнь. Ему приходилось блуждать по заполярной тундре, сплавляться по бурным рекам, прятаться от бандитов, пребывать с различными рисковыми поручениями новой власти в самой гуще Гражданской войны на Севере, терять родных и преданных друзей, учительствовать и воспитывать детей, которых у Алексея Елисеевича было много.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
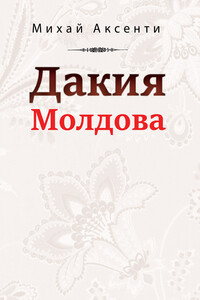
В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
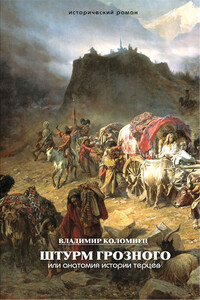
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
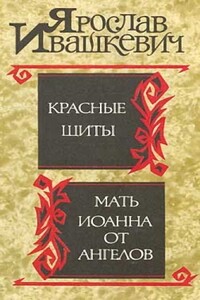
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.
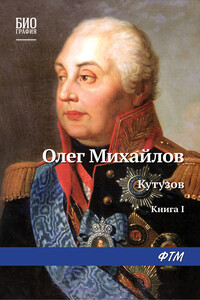
Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
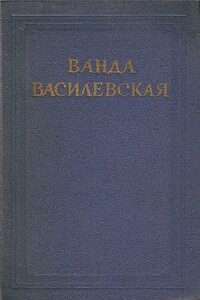
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.
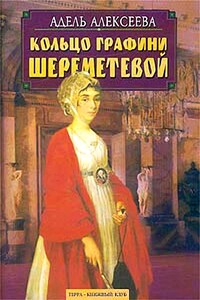
Герои повести "Кольцо графини Шереметьевой" — Наталья Шереметьева и Иван Долгорукий, на долю которых выпали заговоры, доносы, ссылка — и великая любовь... 19 января 1730 года должна была состояться свадьба, и не простая, а "двойная" (это к счастью): императора Петра II с княжной Екатериной Долгорукой, и свадьба князя Ивана Долгорукого с Наташей Шереметевой. Но случились непредвиденные события. Ивана Долгорукого ждала ссылка в ледяную тундру, юная жена отправилась в Сибирь вместе с ним. В поздние годы она написала о своей жизни "Своеручные записки".
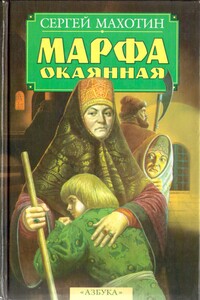
И случились страшные знамения, и пролилась земля Русская кровью, и поднялся на бунт славный град Новгород, защищая свою вольность. А во главе народной вольницы встал не славный богатырь, не мудрый атаман, но слабая женщина по имени Марфа Ивановна, прозванная недругами — МАРФА ОКАЯННАЯ. Роман Сергея Махотина посвящён событиям московско-новгородской войны. Не хочет Господин Великий Новгород расставаться со своей стариной, с вечевой своей вольницей. Новгородские бояре интригуют против власти великих московских князей, не страшась даже открытой войны.
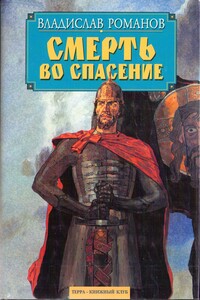
В увлекательнейшем историческом романе Владислава Романова рассказывается о жизни Александра Невского (ок. 1220—1263). Имя этого доблестного воина, мудрого военачальника золотыми буквами вписано в мировую историю. В этой книге история жизни Александра Невского окутана мистическим ореолом, и он предстаёт перед читателями не просто как талантливый человек своей эпохи, но и как спаситель православия.
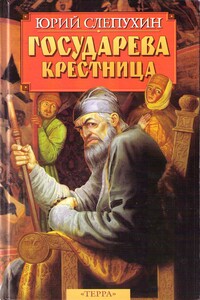
Иван Грозный... Кажется, нет героя в русской истории более известного. Но Ю. Слепухин находит новые слова, интонации, новые факты. И оживает Русь старинная в любви, трагедии, преследованиях, интригах и славе. Исторический роман и психологическая драма верности, долга, чувства.