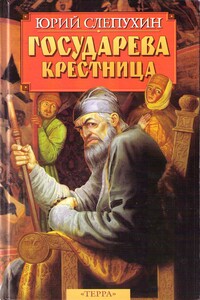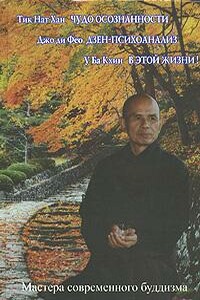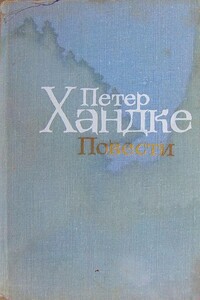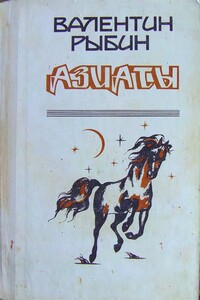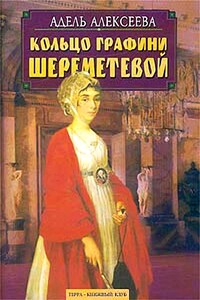ражничали накануне изрядно, хотя не до умоисступления. Только Борис Щенятев, из пеших стрельцов, по обыкновению захмелев сверх меры, под утро уже стал лаять его, крича непотребное: Лобановых-де по Москве развелось, что псов бездомных, — кинь палку через тын и зашибёшь Лобанова. Этакого поношения было уж не стерпеть, Андрей за ворот кафтана выволок обидчика на двор и многажды кунал в кадь с дождевою водой, — покуда тот, вдоволь нахлебавшись, не протрезвел и не повинился как должно. Обиды на скудоумного он не затаил: что с него взять. Сдуру чего не вякнешь, да ещё в подпитии! Эко вызмеился — Лобановых на Москве много... Щенятевых неужто меньше? Да и чем гордиться, сам-то небось не из тех, не из княжат, какой-нибудь худородный побег, ещё неведомо, отколь такое выползло...
Андрей и сам подивился, с чего это вспомнилась вчерашняя дурь. На душе было легко, ехал не спеша, щурясь от солнца и придерживая аргамака. На Тверской людно — ещё кого стопчешь, не приведи Бог. До чего ж здешний народ охоч до зрелищ: скоморохи ли козла с медведем стравили, татя ли кнутом дерут, посольство ли едет — всё увидеть надо. Особенно любопытно на иноземцев поглядеть... хотя мало ли тут ихнего брата, да и что в них такого? Люди как люди. Одеты, конечно, диковинно. Нынешние вот, что прислал ливонский гермейстер (небось опять о пленниках юрьевских приехали хлопотать), — у этих одежда попроще, без особой пышности — плащи с латинскими крыжами[1] остроконечными, зато воинский доспех хорош, ничего не скажешь...
Да и мы, чай, не обсевки! Андрей погладил резную, в крупной бирюзе, рукоять сабли — дорогой, взятой тому восемь лет ещё под Астраханью — и, потрепав по конской гриве, игриво подмигнул встречной молодке. Хотя тут же, получше её разглядев, устыдился: больно нарумянена да насурмлена, не хватало ещё среди бела дня перемигиваться с лиходельницей[2].
Бориска, тот, пожалуй, от зависти на него ярится — что ездовой, не пеший. А самому кто помешал в ездовые верстаться? Конечно, у нас служба вроде бы и полегче. Хотя как когда! Нынче-то ладно всё сошло, а бывает по-всякому, в ответе же за всё он — сотник. С простого стрельца какой спрос?
Вечереть уже начинало, солнце клонилось за купола храма Успения, к самой кровле Большого дворца. Скоро и к вечерне ударят, а народ, гляди, не расходится по домам. Ну да завтра воскресенье, только и дел, что обедню отстоять... Шум стоял как на ярмарке, купцы — лавки уж скоро запирать — пуще зазывали покупателей: успеть бы ещё чего продать, скоморохи бабам на потеху горланили охальное, взревывал медведь, громыхали накры[3], гудели дудки, что-то своё лихо высвистывала сопель. Не в пример иным московским улицам, Тверская вымощена гладко обтёсанными и плотно уложенными одна к одной еловыми плахами, но уж несколько дней стояло вёдро, было сухо, и густая пыль висела в воздухе, золотясь от косых солнечных лучей.
Гордо подбоченясь, покачиваясь в седле, сотник пробирался сквозь толпу, поглядывая по сторонам, негромко покрикивая: «Посторонись, эй!» или «Остерегись, дядя, стопчу!» Были тут и конные, но не густо, и жёнка какая-то ехала на лёгкой таратайке, запряжённой маленькой каурой лошадкой, — молодая жёнка, видать со спины, ишь стройна, что твой стебелёк... Заинтересовавшись, Андрей тронул шпорами аргамака, поравнялся с двуколкой и, оглянувшись будто невзначай, обмер.
...Он после и сам не мог понять, от чего обмер, вроде бы и не с чего было обмирать вот так, с первого-то взгляда. Испокон веку славится Москва пригожими девами, а эта и не была как будто такой уж невиданной раскрасавицей — в Ливонии и иных краях повидал сотник Андрей Лобанов и попригожей. А вот милее не встречалось, оттого и замерло ретивое. На голове у ней был обычный девичий венчик, оставляющий напоказ золотисто-русые волосы, а глаза удивили цветом — не серые али голубые, как обычно в наших краях, а тёмно-карие, в масть соболиным бровям. В остальном же — москвичка как москвичка, румяна да круглолика, и носику б не мешало чуть подлиннее вырасти. Ну да уж какой есть! Купецкая дочь, похоже; одета богато, в обшитой золотым позументом душегреечке бархатной цвета смарагда, однако не боярышня — те так вольно не ездят, без нянюшек да холопей.
— Не боязно ли, девица-красавица? — спросил он с улыбкой, осадив коня поближе, и заломил шапку, слегка поклонившись.
— Чего бояться-то, — отозвалась она певуче и искоса стрельнула глазами. — Не ночь на дворе... да и ездец рядом вон какой — при сабле. Неужто не оборонишь?
Он не нашёлся что ответить, даже заробел маленько — ну бойка!
— Так мы вроде не уговаривались, а ты вон как — без провожатых. А ну как лихие люди умыкнут?
— Тятенька откупит. — Она тоже улыбнулась и снова ожгла его быстрым взглядом.
— Оно конечно... А ты чья ж будешь?
— Ишь любопытный какой! Много знать хочешь, стрелец. Ай состариться невтерпёж? Успеешь ещё, да тебе, чай, не так долго и осталось...
Этого уж снести было нельзя, он прикусил губу и рванул левый повод, отворачивая послушного аргамака.
— Больно языката, как я погляжу! — крикнул гневно. — Я-то тя не обидел, невежа!