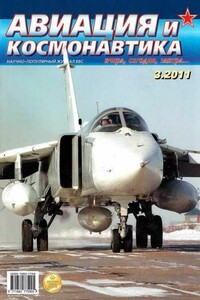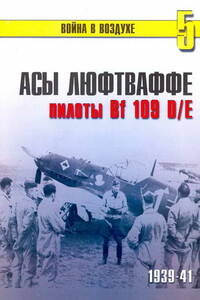– Господа, война, участниками которой все мы являемся, длится уже почти полгода. И за все это время мы могли видеть белый эмалевый крест только на груди генералов. А вот сегодня наконец перед нами впервые предстал кавалер этой почетной награды – офицер. – Оратор поклонился в мою сторону.
– Будьте здоровы, капитан!
Мне поднесли бокал с шампанским, и я невольно стал объектом всеобщего внимания. Повсюду слышались не только поздравления в мой адрес, но и протестующие выкрики против системы вручения самой этой боевой награды.
Надо признать, недовольство офицеров было вполне справедливым. Как помню, еще в конце августа 1914 года (то есть до окончания Галицийской битвы) командующий 3-й армией генерал Рузский за проведение Львовской операции был награжден государем орденами святого Георгия III и IV степеней. О рядовых же и унтер-офицерах, истинных героях фронта, вспомнили много позже, когда приказом по Юго-Западному фронту от 8 ноября 1914 года за № 236 была созвана первая Георгиевская кавалерская Дума. Она в числе других рассматривала и мое представление. А вот вопрос о посмертном награждении Петра Николаевича Нестерова за его беспримерный подвиг был поднят только на втором заседании Думы, 25 января 1915 года. Если так запоздало отмечался подвиг, совершенный буквально на глазах у высокого начальства, то что говорить тогда о представлениях, например, пехотинцев или кавалеристов?
…Крым встретил меня неласково: только два дня успел я «погонять» учебный «Моран». Затем наступила страшная завируха, затянувшаяся почти на целый месяц. А я-то, уезжая из отряда, думал, что мне для «переучивания» понадобится от силы неделя!
Правда, в свободные от полетов дни мне не пришлось скучать. Находясь в компании офицеров-учеников и их молодых инструкторов, я рассказывал о боевой работе нашей авиации на фронте. Мне даже удалось «завербовать» одного инструктора: лейтенант Черноморского флота Г Фриде так заинтересовался моим опытом бомбардировки, что решил подать рапорт и отправиться на фронт.
В январе наконец установилась хорошая погода, и я продолжил свои «гонки». Помнится, мне довольно быстро удалось «сбить» руки и ноги на новые рули, после чего я пересел на «Моран» с 50-сильным «Гномом». Первый полет привел меня в восторг: я точно поменял воронежского битюга на чистокровного арабского скакуна. «Моран» легко шел вверх свечкой, прекрасно слушался рулей. Забравшись повыше, я начал маневрировать, чтобы закрепить навыки в управлении. И вдруг на вираже аэроплан резко качнуло. Я машинально отпарировал крен «по-ньюпоровски» ногой, от чего «Моран» накренился еще больше из-за возникшего скольжения. Быстро спохватившись, исправил допущенную ошибку и вскоре благополучно приземлился на аэродром. Этот случай заставил меня сделать вывод: раз ты перешел на нормальные «морановские» рули, то навсегда забудь про «Ньюпор». Урок, что называется, пошел впрок.
12 февраля я вернулся в отряд. Во время моего отсутствия руководство им было возложено на моего заместителя – поручика Афонского. Он сполна использовал свое право начальника, вызвав к себе после полугодовой разлуки симпатичную супругу.
Ее появление в отряде шло вразрез с негласным правилом, которое сложилось у нас после случая с Пушкаревым: его жена своим присутствием в отряде приковала нашего «Муню» к земле, и он потерял всякую боеспособность. Вот почему на этот раз я поспешил упредить подобные недоразумения, предоставив Афонскому отпуск для свидания с женой в тылу.
Стабилизация обстановки на фронте
На аэродроме в Конске с нами базировались также VI и XIV авиационные отряды. В целях обеспечения гибкого управления ими штаб армии взвалил на мои плечи все три отряда. Теперь уже не штабу, а мне пришлось составлять планы использования имевшихся средств, ежедневно выделять экипажи для разведки войск, железнодорожных узлов, населенных пунктов, тщательно анализировать свежие данные и своевременно фиксировать перемены в стане противника.
Сам факт, что подобная ответственность возлагалась на авиационного начальника, свидетельствовал о росте доверия к нам со стороны командования. Должен сказать, однако, что вся сводная авиация армии по численности едва превышала штатное число аэропланов одного отряда. Такой уж был некомплект. Да и пилотов не хватало: в моем отряде, например, остались только трое – я, поручик Афонский и вернувшийся из Москвы лейтенант Дыбовский. Головатенко переучивался в Севастополе, Пушкарев был откомандирован в тыл. Но, несмотря на все трудности, мы ежедневно вели воздушную разведку в глубоком – до 100 км – неприятельском тылу. Летали без наблюдателей, поскольку сами справлялись с их обязанностями…
Как-то меня вызывают к представителю Генерального штаба полковнику Стаеву.
– Как же это вы, есаул, прозевали подход целой дивизии немцев? – возмущенно спрашивает он меня.
– Когда, в каком районе? – недоуменно вопрошаю в ответ.
Полковник пожевывает губами и уточняет, чуть сбавив тон:
– Ну, положим, не на нашем участке, а на левом фланге соседней с нами армии. Но ведь стыки как-то надо обеспечивать?!
Поняв, что претензии к авиаторам в данном случае не обоснованы, уже с легким сердцем объясняю ситуацию.