Август, двенадцатого - [2]
– Ай, дядя, страсть больно.
– Ништо, по солдатству терпеть доложно.
И жилистые смуглые руки Белобородова уже шершаво шарили по белой шее барчонка, застегивая крючки его солдатского черного галстука.
На затылке у Арефьева была еще вовсе ребячья впадинка, куда спадали волосы русым завитком, а шел сержанту бомбардирскому Степану Арефьеву пятнадцатый годок и хотя вскоре дадут ему офицерский знак и серебряный шарф с канительной кистью, но сержант Белобородов, днюя и ночуя с ним под одной пушкой, Мортирой-Сударыней, ходил за дворянчиком, как за дитею.
– А на Москве, дядя, неделя прошедши, как Престольную отпели, – сказал Арефьев, глядя на туманные звезды.
Над головой ходил сырой дым, и звезды меркли.
Белобородов помолчал.
Арефьев втянул через ноздри горький дым сержантской трубки, запах горелого сена, еще теснее придвинулся к спине товарища.
– И куда, дядя, войско наше загнано. Неведомая Прусская земля, городов заморских сколько прошли… А вечор у пикинеров сказывали: за лесом немецкой силы нынче туча стоит.
– А ты слушай поболе. Набрехают, как-же… Аль боязно?
– Нет.
Сержант выколотил трубку о башмак и сказал покойно:
– Держись подле меня, и вся. Все под Богом…
Арефьев наскоро взбил в букли влажные волосы. Закрутил косицу в пучок. Поискал под лафетом свою кожаную, круглую шапку с двуглавым орлом на медном наличнике, утер орла обшлагом. Медь блеснула ясно и влажно.
В мокрой траве, за плитами могил, уже светятся зарей красные лафеты, там стоит батарея гаубиц и полупудовых, секретных единорогов Шувалова, с чеканным графским гербом на коротких дулах.
С обрыва слышен гул голосов, сырой топот, стук прикладов о влажный песок: прошли куда-то, ровно отбивая шаг, рослые московские гренадеры в оперенных своих гренадерках.
В беловатом тумане рассвета плывут красными холмиками черепичные крыши прусской деревни Кунерсдорф. Стеной чернеет лес за деревней, а небо над лесом как молоко, и в молоке красноватое пятно солнца.
– Росы обильные павши, жаркий день заступит, – сказал Белобородов, вставая.
Белобородов передвинул трубку в край рта и сказал как бы нехотя:
– Подай, Степан, пальника.
На вымытый золотой шар солнца уже нельзя глянуть: выступают на глазах прохладные слезы.
Далеко, за деревней Кунерсдорф, у черного леса медленно поволоклись синие косы тумана.
– Горазд тумана нагнало, у леса-то, – сказал Арефьев.
– Знатен туман: больно синь, – усмехнулся сержант. – Аль не слышишь, гудёть?
Смутным гулом накатывал бой прусских барабанов. Синие косы у леса, не туман, а кривые линии вышедших пруссаков. Ухе вспыхивают белые огни прусских касок, белые ремни.
Звякнула в ясном воздухе, загреготала, как медный жеребец, ранняя пушка, Шуваловский единорог.
Белобородов пригнулся к Мортире-Сударыне. Смуглое лицо сержанта озлилось и потемнело:
– Мы також поздравствуем их брандскугелем, сторонись, Степан, – пли!
Воздухом сильно махнуло полы красных кафтанов. Арефьев зажал уши.
– Каково-то им учтивство наше? – оскалился Белобородов.
Озаряясь огнем пальбы, то гасли, то вспыхивали медные орлы на шапках бомбардирских сервантов.
Как паруса, бегут по темному полю дымы пушек, к лесу, к оврагам, где кривятся и выгибаются синие линии пруссаков.
– В буерак его не пустить: туды не шарахнешь – хрипло выдохнул Белобородое. От пороха его лицо посерело, запеклись губы. Белки сержанта сверкали.
И когда прорвало пушечный дым, на один миг, услышал Арефьев, как с прусской стороны плывет торжественный хор голосов, в холодном крике гобоев и ворковании валторн.
Пруссаки идут в огонь с пением молитвы:
– Господь, я во власти твоей…
Арефьева затрясло. Это был не страх, не была лихорадка. Это был восторг.
Белобородов хрипло командовал:
– Банника подавай, копоти набежало, банника!
В дыму блистал сержантский кафтан, точно облитый кровью. Жесткие букли Белобородова развились, мука сошла с потом и пряди хлестали его по глазам.
От пальбы мортиру откатывало, оба сержанта падали на медное дуло.
– Некуда боле бить, в лощину зашедши, – присел вдруг на корточки Белобородов, вращая белками. Арефьев тоже присел. Под пушкой бомбардиры походили на двух красных белок.
Черная граната зашуркала по траве, подпрыгивая как чугунный мяч. Бомбардиров засыпало песком, сухими ветками.– Не трясись, сиди, – сказал сержант. – Пруссак почал бить…
Из-за серых, обмазанных известкой, каменьев ограда тесными кучками выбегали солдаты. Мундиры маячили в даму светло-зелеными пятнами.
Солдаты падали в траву, отстреливались в дым с колена, на бегу откусывали патроны. Жались тесной толпой, как колючее стадо, выставляя во все стороны штыки.
Один прыгнул через красный лафет, на черной сумке пылающие бронзовые гранаты.
– Гренадер, стой! – крикнул Белобородов, вскакивая на ноги. Гренадер оглянулся. Это был старый солдат в колючей щетине, небритый. Размокший подкосок прилип жидкой прядью к щеке:
– Чего стоять? Ворочай! – Прусак хлещет! Картечи…
Граната, шипя, запрыгала в траве, вырвала длинную песочную полосу. Дунул звенящий грохот. Арефьев кинулся было за гренадером, но сержант цепко ухватил его за руку:
– Степан, а-а-а, Степан… Ранет я… Но-о-гу.
И увидел Арефьев глаза Белобородова, серые, с бархатными клинками, каких никогда не видел раньше, и его ощеренные зубы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
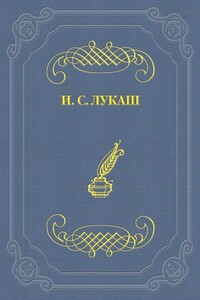
«…– Ничто тебя да не смутит, ничто тебя да не остановит, ничто тебя да не устрашит – сам Господь с тобой.Такие слова Терезы Авильской вырезаны на ее статуе.Это – одна из самых вдохновенных скульптур Беклемишевой…».

«…Казацкая грамота «Роспись об Азовском осадном сидении донских казаков», привезенная на Москву царю Михаилу Федоровичу азовским атаманом Наумом Васильевым, это трехсотлетнее казацкое письмо, по совершенной простоте и силе едва ли не равное «Слову о полку Игореве», – страшно, с потрясающей живостью, приближает к нам ту Россию воли, крови и долга, какой мы разучились внимать.Торопливо, хотя бы кусками, я постараюсь пересказать это казачье письмо…».

Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.

Первооткрывателем темы Галлиполи в русской литературе был Иван Созонтович Лукаш, написавший летом 1921 года документальную повесть «Голое поле» с подзаголовком (Книга о Галлиполи), которая год спустя была опубликована печатницей (издательством) «Балкан» в Софии и в России не переиздавалась. Галлиполийское сидение (Русская Армия в Галлиполи, галлиполийцы) - период продолжения существования регулярных частей Русской Армии генерала барона П. Н. Врангеля (преимущественно 1-го Армейского корпуса генерала Кутепова) после эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г., рассредоточенных в районе греческого (на то время) города Галлиполи (турецкое название города — Гелиболу), расположенного на берегу пролива Дарданеллы, и сохранявших боеспособность до мая 1923 г.
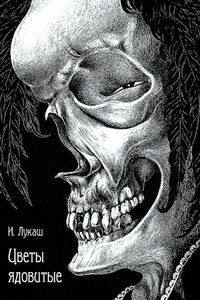
И. С. Лукаш (1892–1940) известен как видный прозаик эмиграции, автор исторических и биографических романов и рассказов. Менее известно то, что Лукаш начинал свою литературную карьеру как эгофутурист, создатель миниатюр и стихотворений в прозе, насыщенных фантастическими и макабрическими образами вампиров, зловещих старух, оживающих мертвецов, рушащихся городов будущего, смерти и тления. В настоящей книге впервые собраны произведения эгофутуристического периода творчества И. Лукаша, включая полностью воспроизведенный сборник «Цветы ядовитые» (1910).
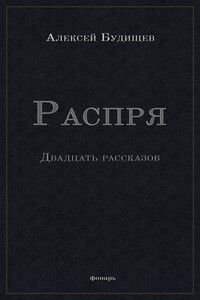
Алексей Николаевич Будищев (1867–1916) — русский писатель, поэт, драматург, публицист.«Распря. Двадцать рассказов». Издание СПб. Товарищества Печатн. и Изд. дела «Труд». С.-Петербург, 1901.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.
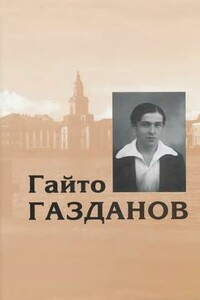
В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.