Антропологические традиции - [5]
Сегодняшний контекст развития антропологического (как, впрочем, и любого другого гуманитарно-академического) знания уже существенно отличается от того, что имел место четверть века или тем более полвека назад. И способы организации дискурса, и способы институциональной организации исследовательских сообществ претерпели ощутимые изменения. Многие приоритеты и линии демаркации, сложившиеся на том или ином этапе XX в., сегодня не работают. Так, в антропологии/этнографии сегодня больше нет никакой «школы МГУ», «петербургской школы» и т. д. Есть виртуальные «интерпретативные сообщества», как назвал их американский литературовед Стенли Фиш, которые складываются по самым разным критериям и факторам: критериям выбора объекта исследований, факторам личных концептуальных или теоретических предпочтений и пр. «Школы», в старом смысле слова, в сегодняшнем контексте не являются эффективным способом организации исследовательских сообществ и теряют способность воспроизводиться (и здесь российское академическое сообщество лишь следует тенденции, обозначившейся в западных сообществах уже четверть века назад). Традиционные научные «школы», какими мы их знаем, поддерживались характерной системой более или менее перманентного сосредоточения кадров в одном месте в условиях невысокой институциональной мобильности, монополией организации на определенный род источников (источники, которые были доступны в одной организации, не были доступны в другой и ревниво охранялись), своеобразной «идеологическо-теоретической» конкуренцией между организациями, которая также опиралась на понятия о преемственности и лояльности (понятия, характерные для науки эпохи высокого модернизма, но унаследованные от более ранних эпох и на самом деле обусловленные столетиями развития специфических догм в христианской традиции знания).
Сегодня эта картина размыта, и факторы, поддерживавшие ее гармоничный образ, сами трансформировались или девальвировались: институциональная мобильность очень повысилась (хотя до уровня, имеющего место в США, в России ей еще чрезвычайно далеко), прежней монополии на источники больше нет, идеологическо-теоретическая конкуренция больше не выступает эффективным мотивирующим фактором, принципы долговременной преемственности и лояльности не работают в мобильном и фрагментированном обществе, в котором понятие «социальная стабильность» потеряло былое значение. Иными словами, сегодня ученые объединяются не на тех принципах, что полвека назад. В настоящий момент на ниве антропологии в России трудятся многие остро мыслящие гуманитарии, но каверза в том, что они уже не представляют собой некой четко оформленной «российской» традиции — кто-то из них вращается в одном интерпретативном сообществе (которое может быть международным по составу и по предпочитаемому в нем теоретическому инструментарию), кто-то в другом (которое может быть, например, «российским» по составу, но совершенно эклектичным по дисциплинарному набору), кто-то в третьем (которое может быть вообще, скажем, преимущественно «французским» или, например, «англоязычным»), кто-то в четвертом (которое может быть удалено от всех остальных, подобно сообществу староверов).
Такая же ситуация наблюдается и в сегодняшних зарубежных антропологических традициях (причем во многих она выражена в гораздо большей степени, чем в российской). Она вовсе не означает того, что антропологическая дисциплина рассыпается. Она означает то, что дисциплина развивается, приспосабливаясь к новым условиям. Действительно, было бы странно, если б в ней все оставалось по-прежнему.
Однако инерция и привычки, наработанные на этапе, который отошел в прошлое, но который вместе с тем был так недавно, конечно, дают о себе знать. Так, несмотря на текучий и мобильный контекст эпохи глобализации и на происшедшую de facto смену ориентиров в построении исследовательских проектов, антропология, например, до сих пор остается привязанной к принципу региональной специализации (который Джордж Маркус называет парадигмой «народов и регионов» и который, несомненно, хорошо знаком отечественным этнографам и антропологам). Этот принцип, с исторической точки зрения, представляет собой наследие того, что антропология сложилась в характерном геополитическом климате эпохи высокого развития национальных государств, эпохи колонизации и деколонизации, иными словами, эпохи, в которой объект антропологии — пресловутые «Другие» — в некотором роде реифицировался и отождествлялся с конкретной физической пространственной фигурой, имеющей выражение на карте. И хотя Джордж Маркус говорит: «Ясно, что сегодня этнографы уже не могут изображать их „объект“ в своих статьях и монографиях в таких „объективных“ красках, в каких они могли изображать его ранее», все же следует констатировать, что ничего еще до конца не ясно и противоречия между способами реального производства и способами формальной институционализации знания сохраняются (опять же обретая локальную специфику в разных «национальных» академических традициях).
Не ясны, например, и трансформации в контекстах «языковых рынков» современной антропологической продукции и режимах «языковой гегемонии», о которых рассуждает Андре Гингрих. Можно ли списывать успехи и неуспехи сегодняшних антропологических сообществ разных стран на то, что все они оказались в условиях «глобального лингвистического кастового общества» (где язык стал играть неожиданно важную дифференцирующую и стратифицирующую роль)? И какие перспективы в таких условиях у «местной» антропологической продукции?
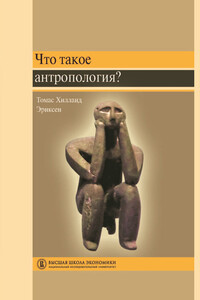
Учебник «Что такое антропология?» основан на курсе лекций, которые профессор Томас Хилланд Эриксен читает своим студентам-первокурсникам в Осло. В книге сжато и ясно изложены основные понятия социальной антропологии, главные вехи ее истории, ее методологические и идеологические установки и обрисованы некоторые направления современных антропологических исследований. Книга представляет североевропейскую версию британской социальной антропологии и в то же время показывает, что это – глобальная космополитичная дисциплина, равнодушная к национальным границам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.