Антропологические традиции - [3]
Каждый из перескоков антропологии — с орбиты одних наук на орбиту других — был опосредован как внутренней логикой развития дисциплины, так и позициональной сменой отношения к ее объекту; как переосмыслением дисциплинарного исследовательского инструментария, так и трансформацией предметной области. Например, перескок с орбиты естественных на орбиту поведенческих и далее социальных наук был опосредован как сменой эволюционизма на другие исследовательские парадигмы, так и дискредитацией понятия о том, что народы и культуры можно изучать так же, как геолог изучает культурные слои. Дискредитированной, выражаясь иначе, оказалась привычка относиться к объекту исследования так, как натуралист относится к своему препарату. Понятие об антропологе как «scientist» («естественнонаучнике»), таким образом, начало распадаться еще на заре XX в. (хотя оказалось на редкость цепким и по инерции еще долго продолжало привлекать отдельных тружеников научного ремесла). В результате антропология, наряду с социологией, психологией и экономикой, прочно вписалась в группу наук социальных — не естественных наук, имеющих дело с объектом иного плана, и не гуманитарных дисциплин, изучающих общество и культуру по текстам и другим продуктам человеческой деятельности или человеческого творчества (т. е. по вторичному источнику), а наук социальных, претендующих на изучение социума в прямом контакте с ним. Институционально большинство кафедр и центров антропологии по сегодняшний день находится в структуре школ и других подразделений социальных наук.
Тенденция перескока антропологии в русло гуманитарных дисциплин — феномен последней четверти XX в., опосредованный, с одной стороны, антипозитивистскими интеллектуальными настроениями конца 1960-х — 1980-х годов; с другой — сменой колониального мира на мир деколонизации. С одной стороны, переосмысление логики познания в антропологии стало наводить все большее число ученых на мысль о его фундаментальном сходстве с познанием в гуманитарных дисциплинах (хотя, по причине возросшего интереса гуманитариев к антропологии в этот период, действительно имел место и феномен «сглатывания» предметной области антропологии соседними гуманитарными дисциплинами, на который, в частности, и намекал Стивен Тайлер)[4]. Однако, с другой стороны, контекст мира деколонизации обозначил появление фактора, во многом гораздо более серьезного для антропологов, чем какое-либо внешнее поедание предметной сферы, — фактора, так сказать, внутренней трансформации антропологического источника, этого «калейдоскопа племенной жизни», как образно называл его Бронислав Малиновский. Крушение колониальной системы внезапно затруднило доступ к источнику. Антрополог метрополии, все же привыкший «брать» свой объект так беспрепятственно, как натуралист берет природные образцы, вдруг оказался в ситуации, когда объект «отказался браться» (хотя о том, что антропология неизбежно столкнется с такой проблемой, предупреждал еще Франц Боас на рубеже XIX–XX вв.). Данное обстоятельство сыграло большую роль в смещении внимания антропологов с того, что позиционировалось как классический объект социальных наук, на более традиционные гуманитарные источники.
Историческое наследие этой траектории, описанной антропологией в научной системе координат, конечно, необходимо принимать во внимание при рассмотрении зарубежных антропологических школ.
Нужно сказать, что в некотором смысле под дисциплиной «социальная антропология», вводившейся в некоторых учреждениях в России последнего десятилетия, понималась (если не с точки зрения формального места, в которое она попадала на факультетах, то с точки зрения интеллектуального самоопределения) своего рода социальная наука. В этом есть некоторая историческая ирония: с одной стороны, вроде бы налицо желание вернуть дисциплине тот аспект, которого она была так долго лишена; но с другой — он возвращается в тот самый момент, когда в большей части остального антропологического мира он начинает уходить. Но это — лишь еще одно свидетельство того, что, как говорит Альсида Рамос в очерке о бразильской науке, «в антропологии не может быть одинаковых путей и дорог».
Конечно, в российской академической и университетской (и вообще — общественной) среде — своя специфика. Конечно, нельзя не отметить и тот факт, что, выбирая социальную антропологию (а предпочтение к социальной антропологии — а не, например, культурной антропологии — обозначилось в российском интеллектуальном сообществе довольно явно), люди во многом интуитивно чувствовали, что выбирают «более научную» версию, более близкую к сциентистским принципам. Этот пиетет понятен. Хотя если сравнивать традиции социальной и культурной антропологии, то опять же нельзя не указать на то, что к последней четверти XX в. социальная антропология оказалась в более глубоком внутреннем кризисе, чем культурная (причины этого изложены, например, в прекрасной статье Маршалла Салинса, которая доступна на русском языке; см.: Салинс 2008). Социальная антропология базировалась на постулате существования некоего универсалистского скелета человеческих сообществ, который, как атомное строение объектов в естественных науках, все «научно» объяснял в сфере человеческой жизни. (Подобная позиция претерпела десятилетия суровой критики и сошла с арены передовых антропологических исследований, однако в российской социальной антропологии сегодняшнего дня она до сих пор в новинку и в общем, за редкими исключениями, воспринимается некритически
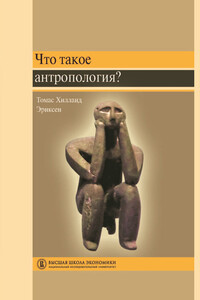
Учебник «Что такое антропология?» основан на курсе лекций, которые профессор Томас Хилланд Эриксен читает своим студентам-первокурсникам в Осло. В книге сжато и ясно изложены основные понятия социальной антропологии, главные вехи ее истории, ее методологические и идеологические установки и обрисованы некоторые направления современных антропологических исследований. Книга представляет североевропейскую версию британской социальной антропологии и в то же время показывает, что это – глобальная космополитичная дисциплина, равнодушная к национальным границам.
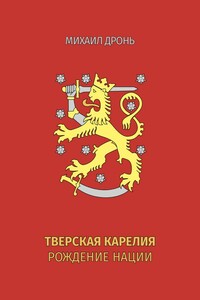
Книга охватывает четыре столетия истории народа тверских карел – с момента переселения их в пределы Тверской области и до испытаний последних лет. Автор прослеживает непростую и временами трагическую жизнь карел Тверщины и старается найти ответы на актуальные вызовы времени. Проблемы языка, самоопределения и государственности как никогда остро стоят перед карельским народом, и от выбранных решений будет зависеть ни много ни мало сохранение этноса и будущее Тверской Карелии.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.