Антропологические традиции - [2]
Еще одно «слово-зонтик», с которым столкнется читатель, — «социокультурная антропология». Формально такой академической дисциплины нет. Когда Андре Гингрих или, например, Джордж Маркус рассуждает о «жизни социокультурной антропологии США с начала 1980-х годов», здесь следует понимать отсылку к объединенной области исследований, которая на протяжении большей части XX в. была представлена в раздельных традициях «социальной антропологии» и «культурной антропологии». В известном смысле они ассоциировались с «британской» и «американской» школами в антропологии, но на практике исследований и в Великобритании, и в США (как и во многих других странах) в последнюю четверть XX в. наметилась тенденция ко все более интенсивному перекрещиванию и сплаву этих областей. Соответственно, говоря о развитии исследований, ученые все чаще стали пользоваться фразами типа «в социальной и культурной антропологии» или «в социокультурной антропологии», что во многих аспектах оправданно, поскольку методологический и концептуальный инструментарий, применяемый исследователями, стал действительно перекрестно заимствоваться из обеих областей[2]. Отдельные новооткрытые кафедры и центры в последнее время предпочитают ярлык «социокультурная» антропология.
Возможно, имеет смысл упомянуть, что и термин «этнография» в большинстве академических традиций имеет не совсем ту окраску, к которой привыкли многие исследователи в советское время. В СССР, как и в некоторых социалистических странах (например, ГДР), этнографией официально называлась дисциплина (на самом деле более или менее условно соответствовавшая тому, что в других традициях называлось этнологией, культурной антропологией, социальной антропологией). Однако в других странах под «этнографией» (вполне в соответствии с этимологией слова: ethno-/grapho-) исторически понималась «деятельность антрополога по описанию народа» — т. е. то, что антрополог делает, когда он находится в условиях полевой работы, и то, что он делает, когда на основании полевых материалов создает формальное описание народа или группы людей. Другими словами, этнография — это своего рода методологическая и практическая основа, на которую опирается антропологическое исследование. Находясь в поле, исследователь занимается этнографией. Компонуя свои полевые записи в некий более или менее цельный отчет об увиденном и зафиксированном в поле, он занимается этнографией. Однако задача создания того, что понимается как результирующий «научный труд» (к которому необходимо привлекаются как означенные этнографические материалы, так и другие сравнительные данные, включая данные смежных дисциплин; к которому прикладываются уже аналитические, а не просто дескриптивные усилия), — это задача антропологии. Все авторы настоящего сборника понимают термин «этнография» именно в таком ключе.
Следует указать и еще на одну особенность восприятия антропологической области исследований в отечественном контексте, а именно на особенность, связанную с местом этой области в так называемой системе наук. Дело в том, что сегодняшним российским ученым и исследователям антропология/этнография (не подраздел физической/биологической антропологии) дана изначально как гуманитарная дисциплина, и многие, как можно заметить в процессе общения с коллегами, просто пожимают плечами в знак того, что даже и не представляют, как это может быть иначе. Однако же и здесь ситуация в отечественной среде — скорее исключение, чем правило. Во всяком случае, положение с антропологией в других традициях — сложнее и запутаннее, чем институциональная обстановка, в которую дисциплина попала в СССР/России.
В СССР «этнография» (как описательная дисциплина, призванная поставлять специфический материал для марксистско-ленинской исторической науки) с начала 1930-х годов была отделена от «буржуазной этнологии» и потому обрела свое место преимущественно на исторических факультетах в качестве того, что стало называться «вспомогательной исторической дисциплиной». Иначе говоря, она «огуманитарилась» очень рано, причем как результат идеологического решения «сверху», а не исходя из какой-либо внутренней логики развития дисциплины и ее объекта. Все последующие поколения советских/российских этнографов видели дисциплину существующей в гуманитарной институциональной среде. В традициях же других стран осмысление антропологии как гуманитарной сферы знания — тенденция всего лишь последних десятилетий (а потому желающие формально могут говорить о том, что «мы обогнали Запад как минимум на полвека»; и, надеюсь, редакторы позволят мне здесь вставить «смайлик» ☺). За период, едва превышающий столетие, антропология проделала впечатляющую для историка науки гиперболическую траекторию от естественной науки («занятия ученых мужей», как выражался Джон Уэсли Пауэлл, основатель Бюро американской этнологии) к науке поведенческой, или бихевиористской, затем к науке социальной, в ипостаси которой она пребывала большую часть века, и наконец к такому дискурсивному повороту, когда, по словам известного американского антрополога и лингвиста Стивена Тайлера, идея антропологии оказалась «каннибализована гуманитарными науками»
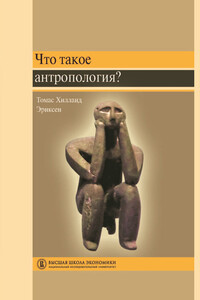
Учебник «Что такое антропология?» основан на курсе лекций, которые профессор Томас Хилланд Эриксен читает своим студентам-первокурсникам в Осло. В книге сжато и ясно изложены основные понятия социальной антропологии, главные вехи ее истории, ее методологические и идеологические установки и обрисованы некоторые направления современных антропологических исследований. Книга представляет североевропейскую версию британской социальной антропологии и в то же время показывает, что это – глобальная космополитичная дисциплина, равнодушная к национальным границам.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.