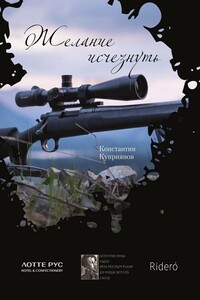Аноним - [17]
"Опять ты берешь мои вещи без спроса, — говорил голос матери. — Иди в магазин, купи две черного и песку".
Я захлопывал медицинский атлас с красно–синим разрезом глаза и оборачивался.
В номере по–прежнему — пусто, только дверца шкафа с мелькнувшим зеркалом дугой плывет по комнате, открывая на стене черное с белым пятно моего города в металлическом блестящем квадрате.
Зазвонил телефон, и уверенный женский голос что‑то командно скандировал, возвращая меня в приятное начало простуды. Я спускался в аптечный киоск и потом в буфете, грея руки о чашку, снова видел плывущую стену домов с неживым блеском стекол. Следом двигались бесконечно переезжающие с места на место люди, никогда потом не видевшие дома, где родились.
Мелькал арест отца в 35–м, проезжала наша высылка с матерью в Куйбышев, а потом в 41–м — в Сибирь, казенной нежитью вертелась в руках в 58–м "справка о смерти", разменявшая жизнь моего отца, фестивальным румянцем наливались портреты вождей на улицах, и снова шли и шли безымянные в кепках.
От чая меня начинало подташнивать, я перебирал руками остывающую чашку и вспоминал, как однажды в Куйбышеве услышал разговор соседки с матерью о том, что какого‑то человека заставили подписать обвинение, пригрозив арестом жены, как раз ожидавшей свидания с ним в небольшом дворике, видном из окна кабинета следователя, и как я долго думал затем, что именно так было и с моим отцом.
"Не то, все не так", — возвращался я к своим размышлениям, чувствуя, что воспоминания заслоняют картинками–иероглифами какой‑то недосягаемый для памяти туман внутри меня.
Я возвращался в номер и опять неподвижно скользил в вязкую глубину. Но зримые образы вновь преследовали меня, и мне чудилось, что отец везет меня на деревянных санках без спинки и почти бежит, а из моей рассеченной брови капают капли на рейки санок, на мокрую варежку и розовую полоску запястья у рукава. Я ощущал еще тот мороз, ненатуральный испуг отца, зуд ранки и вновь переживал беспокойное блаженство. Но как только я хотел понять, в чем оно, — все исчезало. То я видел себя и мальчишек из нашего дома по обе стороны длинной сточной канавы с темно–зеленой травой: мы едим грязную морковку, и сосновый парк вдали густо чернеет сырым мраком теней. То заставал себя у платяного шкафа в номере, щупающим негреющую ткань моего осеннего пальто и проклинающим себя за легкомыслие. То оказывался в постели и, открывая глаза, вдруг вспоминал Сибирь, сани с убегающей лошадью, холодный звон колокольчика, мать в платке, с не идущим к ней "докторским" саквояжем — ее фельдшерским багажом, рядом с матерью — говорливого молодого мужика с красным лицом и себя самого, ревниво–мрачного и невольно улыбающегося от его шуток, и снова лес, зависающий над головой. "Что же было все это?" — спрашивал я себя и повторял эту фразу несколько раз, чувствуя, как она становится пустой и непроницаемой. То я видел вдруг себя в военной форме, в тот первый и странный раз в жизни, когда я растерянно вспоминал юношу–красноармейца на перроне вокзала, с гадливым отвращением бившего ногой в живот мою мать, пытавшуюся увидеть еще раз отца. Затем все путалось. Я опять видел куб комнаты в гостинице, появлялся мой сосед, и мы продолжали бессмысленный разговор.
Вообще тот год был урожайным. У меня развалилась семейная жизнь, окончилась моя "карьера", в тот же год началась моя болезнь, и я впервые "загремел", тогда же я вступил в партию, и еще всякое по мелочи. Я и сейчас еще со стыдом вспоминаю дежурную, парткомовскую улыбку, выплывшую мне навстречу из‑за стола, и себя самого, начитавшегося вдруг Грамши и Бухарина и невразумительно мечтавшего вслух о том, что "это — наша семейная традиция".
Но самое неестественное было все же в отношениях с сыном. Именно в этот год я думал о Грише гораздо больше, чем раньше, решив всерьез заняться его воспитанием. Что я под этим подразумевал, я и сейчас не знаю, но уверен, что как раз тогда я окончательно отдалился от него.
Я отчего‑то убежден был, что цель воспитания — дать человеку тормоза, разрушить в нем иллюзию, что он — лучше других. И я пытался быть с ним то ровно требовательным, то чувствовал, что пережимаю палку, то срывался и орал, постоянно ощущая, что и сам не могу быть искренним в моем убеждении. В воображении я видел Гришу как раз лучше других, и дальше этого я так и не продвинулся. Я не мог, в сущности, даже думать о нем, а лишь вспоминал всю его небольшую жизнь, незаметно поддаваясь ее призрачной безмятежности.
И тут же мне надо было идти в школу, объясняться за его прогул, или соседка снизу жаловалась, что он оборвал удочкой все цветы на ее балконе, или жена вдруг обнаруживала, что он утащил у нее 10 рублей и купил фломастеры какие‑то у товарища. Я не верил жене, сам готов был ненавидеть соседку, защищал его в школе, но как только оставался с ним один на один, понимал, что все это правда, и терялся. Он замечал это и вдруг сознавался, сдерживая слезы и ожидая, что я буду его бить. В эти минуты я и в самом деле ненавидел сына и быстро уходил.
Спустя несколько дней я пытался осторожно вернуться к разговору, но как только сын замечал, что я — серьезен, он испуганно замолкал, и я видел, что он не понимает моих слов, что я весь непонятен ему и что это‑то и пугает его.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
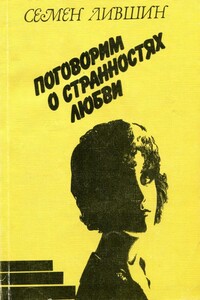
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
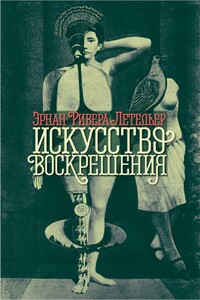
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.