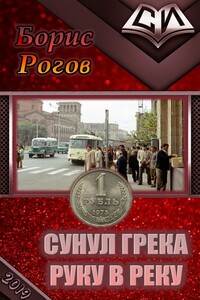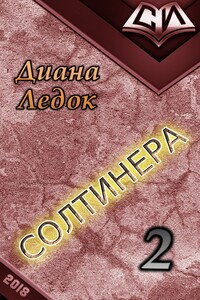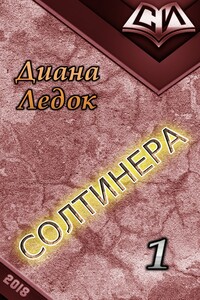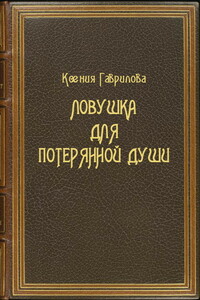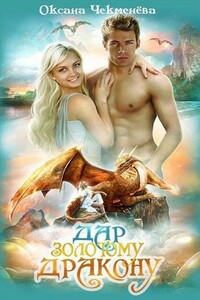Красноармейцы группами по пять человек потекли по улицам села. Подходя к каждой хате, трое лупили прикладами в закрытые ставни и кричали, чтобы хозяева быстро шли на площадь. Оставшиеся держали на мушке двери. При ослушании угрожали запалить хату.
Село сразу засуетилось. На соборную площадь потянулись робкие серые крапины бабьих фигурок, заскрипел костылём японской войны инвалид Парамон, степенно двинулись старики. Мужиков шло мало, только комбед явился в полном составе. Ясно было каждому, что за разгромленный обоз придётся отвечать по всей строгости военного времени.
– Что ж, вы, граждане крестьяне, так плохо относитесь к вашей родной и социяльно близкой вам рабоче-крестьянской советской власти? – Мягко начал Семёнов. Я не мастер долго и красиво говорить. Мне бы шашкой врага рубать, поэтому сейчас наш комиссар Шалагинов всё вам растолкует. Надеюсь, что после нам не придётся прибегать к самым крайним мерам.
Комиссар занял место командира на паперти храма. Он прокашлялся и начал опять про то, что революция задыхается в кольце фронтов, что рабочие мрут от голода, что кулаки с подкулачниками играют на руку всяким японским интервентам и польским панам.
– Ваши земляки, ваши односельчане совершили страшное преступление! Они не только поубивали почти полсотни бойцов интернационального продотряда. Они куда-то спрятали продовольствие, предназначенное для армии и для пролетариату в городах. – Шалагинов сделал почти артистическую паузу. – Поэтому если через три дня участники дерзкого преступления не явятся самолично, их сродственники будут взяты в заложники, а дома сожжены.
– Да, как же это так! Да разве так можно! – раздались крики селян. – Разве могут невиноватые за виноватых отвечать? Да где же такое видано? Ишшо народная власть называется, супротив народу борется, последнего хлеба его лишает, дык, ещё и мужиков расстреливает. – Толпа распалялась всё больше.
Внезапно со стороны кирпичного здания магазина Чернова раздался треск выстрелов. Комиссар схватился рукой за плечо и завертел головой. Снова прогремел нестройный залп. Шеренга красноармейцев рассыпалась, а собравшиеся на сход крестьяне кинулись по домам.
– Несколько человек с винтовками наперевес со всех ног бросились по направлению к магазину, прикладами сбили висевший на дверях амбарный замок, распахнули двери и дали залп в темноту проёма. Не успел в воздухе рассеяться звук выстрелов, как из слухового окна вылетела граната. Осколки засвистели по-над площадью, к счастью, не причиняя никому вреда, однако штурмующая группа залегла в ожидании ещё какого-нибудь сюрприза.
Через четверть часа бойцы перегруппировались. Одни начали безостановочно палить по окнам, а другие перебежками приблизились к окнам. Несколько гранат исчезло провале окна. Грохнул взрыв. Из окон вылетели клубы пыли и дыма. Несколько бойцов проникли внутрь и через пять минут вернулись, таща за ноги иссеченное осколками тело высокого рыжего мужика.
– Старшой сын купца Чернова, – узнали его в толпе. – Он то тут каким боком? Черновы же вместе с колчаковцами ушли.
Через неделю по сёлам Степного Алтая из рук в руки переходила бумага с воззванием к трудовому крестьянству:
«Повстанческая армия считает своим святым долгом стать на защиту интересов трудового крестьянства против попытки господ коммунистов впрячь в свой хомут трудовое крестьянство. Повстанческая армия – меч в руках трудового крестьянства, призывает вас, товарищи, самим взять в свои руки и дальнейшее строительство своего счастья, и свои народные трудовые богатства без помощи партийных лиц, пророков и большевистских шарлатанов, которые достойны смерти как гнусные воры, трусы и разбойники перед трудовым народом, в котором они находят только «человеческий материал» и пушечное мясо»
(урочище реки Бенжереп, Салаирский кряж, Григорий Рогов и кам Каначак)
– Дядька Каначак, – отмахиваясь от таёжного гнуса, Григорий заводит разговор, – вот скажи, почему алтайцы землю не пашут?
Перед ним едва теплится догорающий костерок, в оловянном чайнике заварен таёжный чай из душицы, а на листе лопуха лежит несколько печёных в земле рыбёшек.
– Твоя шалабол, Ыгорый, – Каначак из-под свисающих на глаза пегих косм прищурился на попутчика, – моя, однако, так думать. Всё вокруг нас живое. Небо живая, урман живая, земля тоже живая. Когда ты её плугом ковырять, больно ей делать. Земля и так всё, что нужно даёт, ягода даёт, гриб даёт, орех даёт, птица, рыба, всё даёт. Это вам беспокойным белым людям зачем-то нужно ещё что-то. А так нельзя. Земля сердится, однако. Трястись начинает… Камнем кидаться…
– Чем же тогда народ кормить? Грибов да ягоды для всех не напасёшься. Рыбой да дичиной тоже сыт не будешь. Даже вы, алтайцы, овечек пасёте, лошадок, коровок доите. Шерсть-мясо меняете на зерно или, там, муку, лепёшки печёте, чай ваш жирный варите. Разве нет? Слышал я, что есть алтайцы, что землю пахать пробуют.
– Верно говоришь, и пекём, и покупам, но сами не ковырям… А народ кормить… сам подумай… Ведь отчего народу много? От того, что мужику с бабой кувыркаться сладко. Чем больше сладости, тем больше детишек, чем больше детишек, тем больше им прокорм требуется, тайга тогда не справляется. Приходится кой