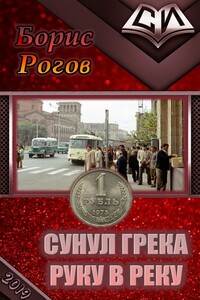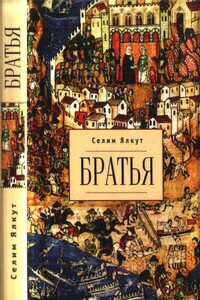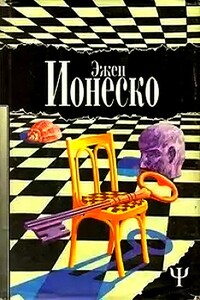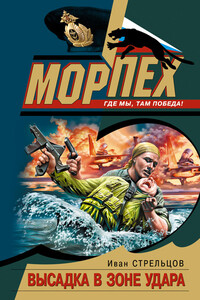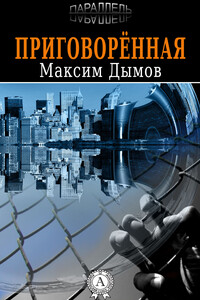14 марта 1920 г.
«Привет.
Всем волостным и сельским ревкомам Барнаульского, Бийского, Кузнецкого и прочих уездов.
Всем товарищам крестьянам, рабочим и партизанам шлю искренний привет и приношу вам, товарищи, глубокую благодарность за ту поддержку, которую вы оказали мне с кровавым самодержцем Колчаком за освобождение трудового народа от гнёта и произвола алчных до власти дармоедов. Спасибо вам, братья, что вы не забыли меня, когда я был заключён в тюрьму волками в овечьей шкуре.
Товарищи, всё перенёс с вами в тайге, борясь за свободу, равенство и братство трудового народа, за это отсидел в тюрьме два месяца. Теперь я освобождён и шлю товарищеский привет не как арестант, бандит и грабитель, а как свободный гражданин, снова готов бороться против угнетателей и дармоедов, Колчака. С вами я пойду против всех врагов. Товарищи, организуйтесь в истинную трудовую коммуну без участия белоручек и кулаков. Сплачивайте ваши трудовые ряды, и в нужный момент выступим сплочёнными рядами добывать истинную свободу.
За свободу, равенство и братство.
Смело вперёд.
Начальник партизанского отряда Г. Рогов.[1]
…
1 мая 1920 года Новосёлов и Рогов подняли мятеж против Советской власти.
(село Кытманово, Сорокинского уезда, Алтайской губернии)
Грохот близкого взрыва резко выдернул Григория из сна, в котором они с Сашенькой разлюбезной плещутся в тёплой воде Жуланихи. Мирную картину сменила страшная правда жизни. По мирному Алтайскому селу лупит трёхдюймовка. Пушкари садят не густо. Скорее всего, пушка у них всего одна. Григорий уже забыл про сон. Мозг его просчитывает варианты, а руки автоматически натягивают старые галифе, гимнастёрку, сапоги. Не успел он затянуть ремень, как долетел звук следующего выстрела. На этот раз разрыв донёсся со стороны базарной площади.
– Следующий может и сюда… – мелькнула мысль в голове. Григорий сунул в карман наган. Патроны россыпью там болтались всегда.
– Эх, прости господи, пресвятая анархия и Михаил Бакунин пророк ея – пробормотал Григорий и, плечом с размаху высадив окно, вывалился из избы. Не теряя ни минуты, он переворотом ушёл за поленницу и залёг, укрыв голову руками. В ту же минуту третий снаряд попал прямо в крышу, которая потеряв опору, завалилась внутрь. Из стойла донеслось беспокойное ржание. По двору с громким кудахтаньем носились куры, на цепи заходился от истошного лая местный кабыздох, а ошалевшая от ужаса кошка сиганула через забор и скрылась за кустами шиповника.
– Добрый канонир сегодня, ловко садит, сука… – Григорий начал потихоньку рассуждать сам с собой. Мы живы… а значит, ещё повоюем.
Не обращая больше внимания на вой снарядов, Григорий бросился к хлеву. Снаряд, к счастью, разорвался на улице, скосив осколками плетень.
– Эх, нам бы Серко оседлать, а тогда…
Он не успел ни добежать, ни додумать. Четвертый смертельный гостинец вонзился в покосившийся старый хлев. Серко жалобно заржал, а мгновение спустя издал прерывистый предсмертный крик. Скорее всего, коню переломило хребет рухнувшей стрехой.
– С-с-суки… – в бессильной ярости сжимал кулаки Григорий Рогов. Его сердце стиснула дикая злость. В этот миг все обиды последних лет слились в один ком, застрявший у него в горле. От горького чувства утрат, которые преследовали его в этом году, до скрежета стиснул зубы.
– Я вас… я вам, суки… вы у меня умоетесь, падлы… кровью… до последнего резать вас буду… всех, детей ваших, баб ваших, всех… – он мог бы стоять и дальше, проклиная большевиков, но свист пуль вернул его к действительности.
Одним прыжком Григорий перелетел через забор и ринулся в сторону Чумыша. Если пойти по реке, то можно уйти далеко и никакая погоня сквозь заросли тальника не пробьётся, и следов не останется. Двигать надо в сторону Сорокино[2], оттуда пришли каратели, а значит меньше вероятность, что искать будут в той стороне.
Так, раздумывая на бегу, он миновал огород, и уже начал было продираться сквозь густой кустарник. Хорошо, что его чуткий слух успел уловить какие-то голоса. Не раздумывая, Григорий повалился на землю.
– Стой! Кто идёт? – тут же раздался окрик из-за ближайшего куста.
– Да, пёс бродячий это! – пытается урезонить первого напарник, – Ты, Петруха, уже собаку от человека отличить не можешь.
– Какà ещё, Ерофеич, собака! – сердито ворчит первый, – кусты трещат, будто медведь ворочатся! Как бы энтот Рогов не сбёг бы мимо нас.
Григорий вытянул из кармана наган, дождался очередного выстрела пушки и, упёршись локтями в прелую прошлогоднюю листву, ужом скользнул к дозорным.
Молодой, которого старший назвал Петрухой, уже успокоился, и продолжил прерванный разговор:
– А что, дядя Митяй, Кытманово-то справна деревня?
– Окстись, какà там… Была бы справна, Рогов в ней бы не прятался. Он же не дурней тебя, чтобы в богатой деревне хорониться. Говорят, что если бы не лазутчик, то нипочём бы чекисты про Кытманово не допёрли.
– Повезло зна… – молодой внезапно замер на полуслове. Он выпучил глаза и побледнел лицом.
Григорий тихо поднёс к губам ствол нагана, давая понять, что шуметь опасно. После подал знак левой рукой, чтобы Петруха не останавливался, а правой направил ствол прямо в лоб парня, прикрытый только суконным картузом.