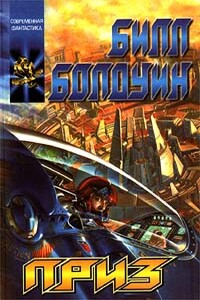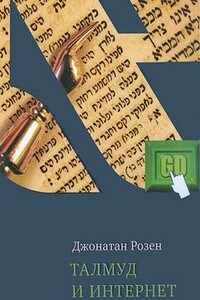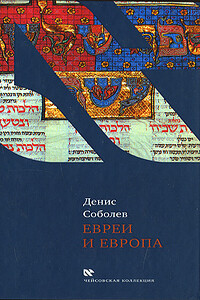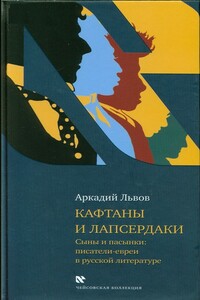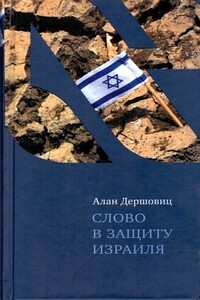Пусть читателя не смущают названия трактатов Талмуда, мидрашей и другой религиозной литературы (Берейшис Рабо, а не Берешит Раба; Брохойс, а не Брахот и т. д.) Они, как и в оригинальном тексте, даны в ашкеназском произношении, поскольку в книге речь идет об ашкеназской традиции.
Цитаты из Торы и комментария Раши даны в переводе Фримы Гурфинкель.
Цитаты из Пророков и Писаний (Невиим и Ктувим) — в переводе Давида Йосифона (за исключением двух фраз из Песни Песней, они — в синодальном переводе).
Цитаты из Талмуда — в разнообразных безымянных переводах (поскольку полного перевода Талмуда на русский не существует), просмотренных и одобренных раввином Александром Фейгиным.
И еще: я хочу сказать большое спасибо некоторым людям, без которых этот перевод не совершился бы:
«Раскардаш Оркестру», который влюбил меня в идиш и идишкайт.
Ане Герасимовой и Владу Минкину, которые познакомили меня с творчеством Майкла Векса.
Моему папе Вадиму Голубу, который однажды в шутку предложил: «А ты переведи эту книгу».
Михаэлю Дорфману, который почему-то сразу в меня поверил и продолжает верить по сей день.
Жене Лопатник, которая терпеливо и с лукавинкой ведет меня по морям еврейских грамматик.
Раввину Александру Фейгину и его жене Оксане Гесиной, которые с чувством, с толком, с расстановкой консультировали меня по всяческим вопросам.
Илье Магину, который помогал не меньше, чем дразнился, а то и больше.
Жене Манко, который научил меня находить в себе самой силы, чтобы доделать работу до конца.
Самому Майклу Вексу, который мало того что написал эту книгу, так еще и неусыпно в течение полутора лет (!) отвечал на мои клоц-кашес.
Ася Фруман
Sabinae Filiae
Nunc scio quid sit amor[1]
В этой книге идиш предстает не таким, каким его порой изображают популярные англоязычные источники. Помимо хорошо знакомых нам черт — типично еврейских практичности и юмора — в нем есть много других, отнюдь не милых и не политкорректных. И наивным его никак не назовешь. Подобно Талмуду, породившему многие еврейские взгляды, идиш таит в себе множество вещей, но невинность в их число не входит. Идиш как культурное явление (как основной язык целого общества) процветал в период между Первым крестовым походом и концом Второй мировой войны плюс-минус несколько лет. Исторические события не могли не повлиять на характер идиша — этот язык, эта культура родились в одной резне и погибли в другой.
Исторический подход к такому материалу был бы очень невеселым, поэтому я решил написать не биографию, а портрет. Вернее, серию портретов: вот еврей говорит о еде, вот он сталкивается с сексом и смертью, а здесь — позирует с родней.
Читателю будет предоставлено достаточно материала, чтобы понять значение слов и идиом так же, как их понимают евреи. Возможно, некоторые портреты скорее напоминают рентгеновские снимки — и все же это именно портреты.
Но чтобы получить целостное представление об идише, мы должны сначала рассмотреть иудаизм и особенности еврейского быта и веры, определившие развитие языка. И если в первой главе о Библии и Талмуде говорится больше, чем о бупкес и тухес, то лишь потому, что Библия и Талмуд для идиша — то же, что плантации для блюза. Разница только в том, что блюз далеко ушел от плантаций, а идиш, несмотря на все старания, так и не смог улизнуть от Талмуда.
Поскольку книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, нет особого смысла указывать библиографию, так как почти все источники написаны на идише. Однако я не могу не упомянуть четыре основные работы, знакомые любому идишисту: «Современный англо-идиш и идиш-английский словарь» Уриэля Вайнрайха; «Идиш-англо-ивритский словарь» Александра Гаркави, «Ойцер фун дер йидишер шпрах» («Сокровищница еврейского языка») Нохума Стучкова и «Гешихте фун дер йидишер шпрах» («История еврейского языка») Макса Вайнрайха. Последняя издавалась на английском под названием «History of the Yiddish Language» (Chicago, 1980).
Глава 1
О природе квечей:
происхождение идиша
Человек заходит в поезд и садится напротив старика, читающего еврейскую газету. Поезд трогается. Через полчаса старик откладывает газету и начинает хныкать, как капризный ребенок: «Ой, как я хочу пить… Ой, как я хочу пить… Ой, как я хочу пить…»
Через пять минут пассажир напротив доходит до ручки. Он отправляется в другой конец вагона к баку с водой, наполняет стакан, идет назад. Через несколько шагов останавливается, идет обратно к баку, наполняет второй стакан и осторожно, чтобы не разлить воду, возвращается на место. Подойдя к старику, он кашляет, чтобы обратить на себя внимание. Тот, оборвавшись на полу-ой, поднимает голову и одним глотком осушает первый стакан. Его глаза полны благодарности. Тут же, не давая старику опомниться, пассажир протягивает ему второй стакан, садится на место и закрывает глаза в надежде хоть немного вздремнуть. Старик вздыхает, как бы говоря спасибо. Потом он облокачивается на спинку сиденья, запрокидывает голову и говорит так же громко, как и раньше: «Ой, как я хотел пить…»
Если вы поймете анекдот, то легко овладеете идишем. Здесь есть почти все важные составляющие еврейского характера: постоянное напряжение между «еврейским» и «нееврейским»; псевдонаивность, позволяющая старику притворяться, что он не хочет никого беспокоить; крушение надежд второго пассажира после того, как тот напоил еврея… Но самый главный элемент —