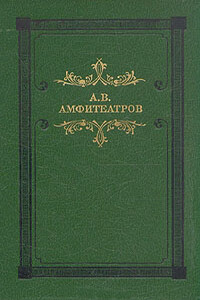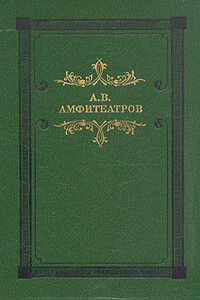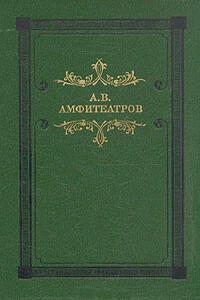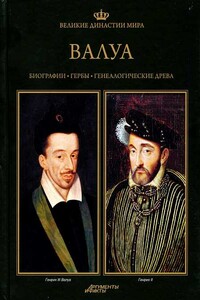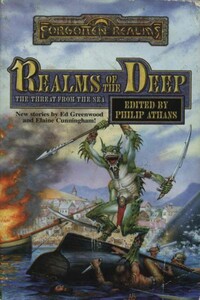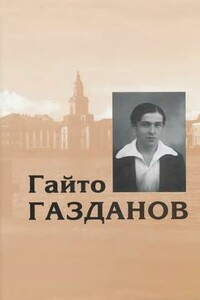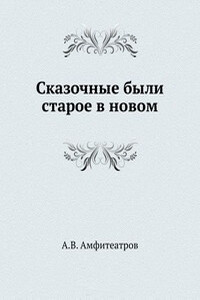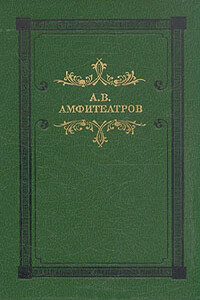Я странник и скиталец по призванию. Быть прикованным к одному и тому же месту земного шара круглый год для меня немыслимо и невыносимо. Человек грешный, я, конечно, по смерти своей не рассчитываю попасть в рай; но, если попаду, паче чаяния, полагаю, что никакие золотые яблоки на серебряных яблонях, никакие райские напевы не утешат меня в моей посмертной оседлости. И, конечно, я не утерплю, найду какую-нибудь лазейку, чтобы хоть одним глазком взглянуть на чистилище, или, время от времени, делать тайные прогулки в ад, к друзьям грешникам, пекомым на железных сковородах.
Скитаюсь я, преимущественно, по странам южным, где синее небо над синим морем, по вулканической почве, которой мало трёх отдушин Этны, Везувия и Стромболи, оставленных европейским континентом подземному огню, и которая, поэтому, нет-нет да и развернётся под ногами населяющего её жительства, вспученная извержением огнедышащей горы или могучими ударами землетрясения. В моих скитаниях, как поёт маркиз из «Корневильских колоколов», было много страдания и испытания. Кроме железнодорожного крушения, пережиты все бедствия страннического авантюризма. В том счёте четыре землетрясения, а в их числе страшная константинопольская катастрофа, в июле 1894 года. Я попал в Константинополь из Болгарии, вскоре после падения покойного Стамбулова. К событию этому тогда были прикованы взоры всей Европы, и переворот в природе Балканского полуострова прошёл как-то мало замеченным, за переворотом в его политике. Разумеется, однако, не для жителей Стамбула, переживших ужасные дни: землетрясение вырвало из среды константинопольского населения свыше 2.000 жертв.
Когда я возвратился в Россию, меня постоянно спрашивали в обществе:
— Ах, вы видели константинопольское землетрясение?! Ах, как это интересно! Ах, расскажите, пожалуйста, как это бывают землетрясения?
Обыкновенно я отвечал:
— Очень просто, madame или mademoiselle N. (ибо спрашивают по преимуществу дамы, — уж так сложилось российское общество, что женщины в нём больше интересуются сильными ощущениями, чем мужчины), очень просто. Земля начинает трястись, а дома — падать.
Признаю полную неудовлетворительность такого ответа. Признаю, что он очень напоминает ответ артиллерийского офицера, который на вопрос барышни:
— Как делают пушки? — объяснил кратко, но выразительно:
— Берут дыру-с и обливают её медью.
Но трудно было отвечать иначе по первым безотчётным впечатлениям. Рассказывать и описывать явления природы легче всего сравнениями. Но землетрясение решительно не с чем сравнить; это явление единственное в своём роде и самодовлеющее. Чтобы иметь о нём понятие, надо его испытать, чего, впрочем, не советую никому, кроме самоубийц, и не желаю даже самому заклятому своему врагу; а сверх того, смею уверить, что, испытав одно землетрясение, вы, если случится вам пережить другое, испытаете от него совершенно новые впечатления, и само оно покажется вам явлением совершенно новым. Ко всему можно привыкнуть, говорят умные люди. Человек притерпелся к самым пёстрым и разнообразным бедствиям. Уже один факт существования пожарных команд, громоотводов, плавательных аппаратов доказывает, что он притерпелся к бедствиям от огня, воды, электричества и выработал привычку борьбы с ними. А некий анекдотический семинарист утверждал даже, будто возможно выработать привычку падать вниз головою с Исаакиевского собора. Но к землетрясениям не привыкают. До константинопольского я пережил землетрясение в Тифлисе и в Генуе: последнее было непосредственным отголоском подземной грозы, обратившей в прах Ментону и Ниццу. И что же? Когда землетрясение подступило к Константинополю, я не узнал его сразу, и две-три секунды колебался: что это? старый знакомый, обоготворённый греками и наследником их пантеистического язычества Гёте, Σεισμός второй части «Фауста» или что-то ещё не пережитое, какой-то новый, ещё не испытанный ужас? Окрестности Неаполя, где бурление Везувия часто колеблет почву, должны бы, казалось, за двухтысячелетнюю историю свою, выработать какой-нибудь modus vivendi со старым вулканом, исконным их губителем и благодетелем вместе. Но я имел удовольствие присутствовать при извержении Везувия и убедился, что неаполитанцы свыклись со всеми шалостями огнедышащей горы, — с потоками лавы, пламенем, пеплом, раскалёнными камнями; одно, к чему никак не могут они приучить своё жизнелюбивое нутро, что всякий раз поражает их, переживших на веку своём десятки лёгких землетрясений, таким же беспомощным ужасом, как и нашего брата, переживающего землетрясение впервые, — это шатание почвы под ногами, дрожь земляных стенок великого парового котла Европы. Нельзя привыкнуть! Землетрясения капризно-разнообразны в своих разрушительных приступах. Однообразны только в результатах: прах домов и трупы людей.
Я сказал: землетрясение подступило. Лучше сказать: подобралось и набежало. Оно подкрадывается, как зверь к добыче, как киргизский вор к стаду баранов. Мне кажется, что некоторое подобие смятения, охватывающего города, поражённые землетрясением, испытывали средневековые степные сёла при внезапных, как молния, нападениях половцев, печенегов и татар. Вечереет. Небо чисто и прекрасно. Степь лоснится ковылём, нежась под последними лучами уходящего за курганы солнца. На десятки вёрст кругом шепчутся под тихим ветром камыши. Село спокойно; в хатах зажигаются огоньки, семьи готовятся вечерять, песня слышна — тягучая и широкая, песня вольного степного человека… Но вот все, сколько ни есть народа в селе, разом, с недоумением поднимают головы: в сельскую тишь хлынул поток смутного шума — дробный и быстрый топот тысячи коней, вихрем вылетевших из глубины камышей, где лежала весь день на стороже никем не замеченная и нежданная засада вражьей силы. Никто ещё не успел разрешить: что это за гул? откуда? а он уже вырос в бурю; он уже на дворе. Гиканье полулюдей, полузверэй оглушает мирно сидящих за ужином. Крыши пылают над их головами; падают подрубленные столбы хлевов и коновязей; скотина ревёт тоскливо и жалостно; с церкви гудит запоздалый набат… Обезумевший селянин бежит, куда глаза глядят, спотыкаясь о трупы своих родичей, о тела обомлевших женщин и попадает на аркан прежде, чем разберёт, что за беда стряслась над ним? Кто эти зверообразные желтолицые не то люди, не то черти в мохнатых шапках, с разбойничьими глазами, с криками людоедов?.. Людская буря проносится мимо. Какой-либо, счастливым случаем уцелевший, малец, чуя возвращённую степи тишину, выползает из погребицы на свет Божий и растерянно, ровно ничего не понимая, смотрит на груду углей, в которую превратилось его родимое село. Как же, мол, так? Было село, а осталась зола… Ни тятьки… ни мамки… Десяток холодных, залитых кровью трупов… Вот настроение этого мальчишки будет отчасти похоже на настроение человека, «видевшего» хорошее землетрясение.