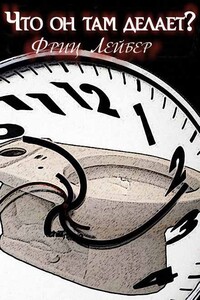Ф.Суркис
Загадочная гравюра
Научно-фантастический рассказ
Прежде всего она не была гравюрой, как это понимают специалисты, хотя именно под этим названием и приобрела широкую известность. То есть я хочу сказать, она не была оттиснута с деревянного или любого другого клише — ее писали самостоятельно, в классической манере короткого мазка, с виртуозной обработкой фона. А гладкая, без единого следа кисти поверхность ее еще больше напоминала лубок или литографию, чем даже сочные неожиданные краски.
Оговорюсь заранее: я никогда не причислял себя не только к специалистам, но даже просто к ревностным любителям живописи. Я знал единственную классификацию: картины интересные и картины никудышные. Да и ценность картин представлялась мне в виде некоей странной рифмованной последовательности: след, свет, сюжет, портрет. След должен оставаться в моей душе. Свет — это, например, оба Рериха и Рокуэлл Кент. С сюжетом сложнее. Я не люблю натюрмортов. В картине что-то должно происходить: пусть там воюют, целуются или возносятся на небо. В крайнем случае, пусть ничего не делают — ведь именно так получаются портреты. Все-таки человеческие лица приятнее бессмысленных упражнений с предметами. Вот, например... Впрочем, мне все равно никто не поверит. Лучше пользоваться общепризнанным эталоном — улыбкой Джиоконды.
Так вот. Эта картина была портретом. Мало того — иконой. А поскольку я всегда был убежденным атеистом, подарок не вызвал у меня никакого восторга. Но мне не хотелось обижать бабушку, приехавшую на мою свадьбу из глухой деревушки Псижа Новгородской области. Она всплакнула, по очереди обнимая меня и мою молодую жену, и сказала:
— Благословляю вас, детушки, самым дорогим, что только есть у меня на свете. Это старинный чудодейственный образок. Я знаю, вы теперь живете по-другому. Но все-таки обещайте всегда его хранить. Пусть приносит счастье в новую семью!
— Он слишком хорошо выглядит, чтобы быть древним, — возразил я, принимая небольшую дощечку, одну сторону которой без полей и рамки занимал поясной портрет старца с несколько усталым худощавым лицом. Не знаю, можно ли о лице сказать «усталое», но именно такое впечатление произвели на меня впалые щеки и выпуклый, неестественно высокий лоб с узлом морщин посредине. А глаза глянули на меня так пронзительно, с такой спокойной мудростью, что я вздрогнул.
— Никто не знает, сколько ему лет, — продолжала бабушка. — Но с тех пор, как я себя помню, он всегда был таким.
Я неопределенно хмыкнул, — не верю я в эти неувядающие краски! — и сунул образок на полку между книг. Через несколько дней я бы по старой холостяцкой привычке забыл о нем. Но тут случилось нам разбирать книжные сокровища, удвоившиеся с приходом Лиды, и меня опять поразило удивительное лицо старца. Я всегда представлял святых этакими сморщенными стручками, низколобыми и хмурыми, с фанатическим полыханием в зрачках и обрубленными пальцами или иными следами убиенной плоти. А тут — высоченный лоб мыслителя и глаза, для которых нет тайн. Как бы я ни относился к религии, но этот взгляд не должен был упираться в пыльную книжную обложку. И после коротенького спора — сплошных взаимных уступок — мы повесили портрет над нашим изголовьем — под самой полкой с внутренней стороны. Скрытый от посторонних глаз, старец немигающе смотрел перед собой и что-то беспрерывно выпытывал. Мы постоянно ощущали на себе этот взгляд — живой, пристальный и бесконечно мудрый. И чем прозрачней для него делались наши жизни, тем настойчивей и изощренней становился его безмолвный вопрос. Это трудно объяснить, но где-то внутри, подсознательно вызревало убеждение, что он представитель каких-то потусторонних сил.
Для меня впечатление было особенно мучительным в силу своей двойственности. Я атеист. Атеист законченный, убежденный. И не то, чтобы меня кто-нибудь там агитировал. Но каким-то образом, с детства, с книгами и наблюдениями в меня вошла неистребимая вера в материальное. И наивысшим критерием любого действия или явления я считаю закон сохранения энергии — закон, по которому немыслим никакой акт творения. С этих позиций я могу объяснить все. Абсолютно все... кроме факта собственной смерти. Действительно. Мне больно и обидно, но в конце концов нетрудно представить себе пустоту вместо любого человека, самого знакомого или крайне близкого. Его не будет — и «De mortuis aut bene, aut nihil»[1]... Но как представить себе свое отсутствие? Распад ощущений? Черноту вместо неуловимых полнокровных мыслей? Короче, как моему «я» ощутить всю бессмысленность и бесконечность моего собственного небытия? Бр-р! Это единственное, чем меня не устраивает материализм. И все-таки я скорее поверю в переселение души или в непостижимое ментальное поле Вселенной, чем в существование загробного мира.
И вот мне, стихийному материалисту, да еще с философским уклоном, попадается это потустороннее произведение — живое воплощение «Портрета Дориана Грея».
Я предположил, что впечатление одушевленности, «эффект присутствия» старца происходит от мастерства иконописца. Моим любимым занятием стала детская игра в «гляделки»: кто кого пересмотрит. Конечно, я всегда первый отводил взгляд, но, мне кажется, вовсе не потому, что состязался с портретом: просто его глаза излучали куда больше жесткости и леденящей силы!