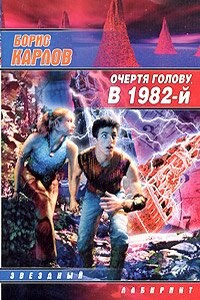Рассказ
В канун праздника Хануки Иде Маргас исполнилось аккурат сто двенадцать лет. Но она кокетничала и говорила, что ей девяносто шесть. Так что поздравляли Иду с осторожностью, обходя разговоры про возраст стороной. В огромной коммунальной квартире помимо самой Иды жили три ее дочери Мэри, Рися и Броня, их мужья, дети, внуки, внучки, правнуки и правнучки – одним словом, все бесчисленное потомство от колена старого Залмана, ученого мудреца и горького пьяницы, давно лежащего под гранитной плитой на еврейском кладбище в Малаховке. Правда, среди московских евреев ходили слухи, что младшая дочь столетней Иды рождена ею не от законного супруга Залмана, а от тайного любовника, лихого рубаки-кавалериста, в годы индустриализации сбежавшего на пароходе в Китай и ставшего еврейским генералом в армии Мао Цзе-дуна. К счастью, слухи эти до младшей дочери, восьмидесятитрехлетней Брони, не доходили, зато вокруг самой Иды сложился ореол роковой женщины, эдакой иудейской красавицы, способной разбить сердце любого мужчины – от местечкового талмудиста до китайского генерала.
Слухи слухами, но Ида и в самом деле отдавала некоторое предпочтение младшей дочери перед старшими, сокрушалась об ее неудачном, как она полагала, замужестве и куда больше других зятьев невзлюбила ее мужа, этого безработного мойщика посуды, деревенского дурня, сменившего еврейское имя Палтыял на шутовскую кличку Павлуша, но так и не ставшего апостолом Павлом.
К мужьям старших дочерей Ида относилась с холодным равнодушием, не узнавала или делала вид, что не узнает их при встрече на общей кухне, проходила мимо, не здоровалась, словно берегла остатки сил, чтобы выплеснуть всю накопившуюся желчь на бестолкового Павлушу, которого она во всеуслышание называла позором семьи, дома, улицы и всего еврейского народа.
В качестве мужа и зятя Павлуша выглядел приобретением и правда весьма сомнительным: типичный неудачник, шлимазл из богом забытого местечка, не знающий ни дела, ни ремесла, даром что родственник ученого раввина, а как был дурак, так дураком и остался. Это же надо ухитриться: прошел всю войну до Берлина без единого ранения, а десятого мая, когда солдаты палили от радости в воздух, нечаянно отстрелил себе левую пятку, пытаясь достать табельный пистолет из кобуры. Два дня назад его поставили бы к стенке за самострел, а теперь попросту комиссовали из армии, и Павлуша вернулся домой полным инвалидом, но не войны – на момент рокового выстрела война-то уже кончилась, – доживать свои дня на мизерную пенсию.
– Гитлера нет, а Павлуша остался, – так старая Ида подвела итоги Второй мировой войны.
Родственники надеялись пристроить бестолкового Павлушу к какому-нибудь, пускай и мелкому, делу и для начала отправили его торговать газетами с лотка. Однако Павлуша возлагаемых на него надежд не оправдал: в первый же день его обокрали, обсчитали и обвинили в недостаче и выгнали вон. Место разоренного лотка заняла бочка с прокисшим квасом, а Павлушу решено было не выпускать из дома ни под каким видом, даже за солью в гастроном.
Отныне Павлуша целыми днями сидел на кухне и мыл посуду – это было единственное, что он оставался способным делать без ущерба для окружающих. Ранним утром Павлуша выходил на кухню, усаживался на табурет и начинал строгать стиральное мыло на овощной терке. Потом он укладывал липкие стружки в эмалированный таз, заливая их горячей водой из чайника, наводил мыльную пену и принимался счищать жир с тарелок, блюдец, кастрюль и сковородок. Павлуша мыл посуду всем родственникам, обитавшим в квартире, но их было так много, что он едва успевал вытереть насухо последнюю чайную ложку, оставшуюся после завтрака, как родственники уже заканчивали обедать, и Павлуша вновь принимался строгать стиральное мыло.
Просиживая с утра до вечера на кухне, Павлуша мог бы быть вполне счастлив, если бы не Ида, осыпавшая зятя упреками, жалобами и ветхозаветными проклятиями. Но в ответ на еврейские причитания он начинал петь русские народные песни. Музыкального слуха у Павлуши не было, голоса тоже, он не пел, а кричал, аккомпанируя себе на железной терке:
Из-за острова на стрежень…
Ида хваталась за сердце и призывала родню в свидетели.
– Евреи! Все евреи, идите сюда! Этот хромой гиголо опять поет про свой стержень! – голосила Ида, и родня уныло плелась на кухню.
– Павлуша, – робко говорила мужу младшая дочь Иды Броня, – ты можешь ради маминого здоровья спеть хотя бы одну еврейскую песню?
Павлуша охотно соглашался и начинал кричать:
Ай, койшен, койшен папиросен,
Подходи, пехота и матросен!
Ида, пережившая три революции и два погрома, замахивалась на зятя костылем. Но Павлуша не сдавался и продолжал петь отъявленно мерзким голосом:
Подходите, не робейте,
Сироту меня согрейте,
Посмотрите, ножки мои босен!
Ослабевшую Иду уводили в ее комнату. Вслед ей торжествующий Павлуша выкрикивал песни советских композиторов.
Иной раз случалось, что верх брала Ида, и тогда в комнату уводили Павлушу. Его укладывали в постель, отпаивали травяным настоем и валокордином. Ида стояла у дверей и читала по еще живому зятю заупокойный кадиш.