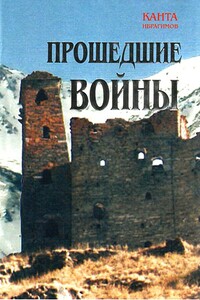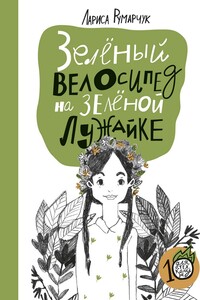Савельеву И. С.
Прошло уже много лет, а это самое раннее помню все так же отчетливо… Теплый, солнечный день. Я еще не умею ходить. Ползу по лужайке, недалеко от дома. Вижу отдельные темно-зеленые травинки и небольшие ниточки паутинок, блестящие в лучах низкого закатного солнца. Здесь же, на лужайке, со спутанными передними ногами, щиплет траву лошадь. Я подползаю к лошади, опираюсь руками на ее заднюю ногу и встаю… берусь за длинные волосины хвоста и дергаю их… Что было дальше, не помню. Мать рассказывала, много позже, что все это видела соседка. Когда старая умная лошадь задней ногой осторожно откинула меня, я упал…
— Анисья, лошадь Федьку убила! — закричала соседка со своего крыльца.
Мать опрометью выбежала из дома и схватила меня на руки. Как она говорила, с испуга я «зашелся», а потом «отошел» и начал плакать. Этого я тоже не помню.
* * *
Мне три или четыре года. Мать возится у печки с ухватами, а я стучу молотком, забиваю гвоздь. Гвоздь не стоит, и я забиваю его лежачим. Он уже глубоко впился в скамейку, а я все колочу… Подходит мать, молча отбирает молоток, кладет на полку и уходит… Свою мать я помню черноволосой, гладко причесанной, с ярко-розовыми кружочками на щеках. Я очень долго считал, что мою мать назвали потому Анисьей, что румяные щеки ее похожи на анисовые яблоки.
* * *
К нашей деревеньке близко подступают леса, где зимою в пухлых сугробах прячутся тетерева, а по обочинам мало наезженных лесных дорог бродят волки.
Ранней весной и осенью через деревню пролетают стаи гусей, уток и журавлей. Утки обычно летят ночью. Летят они низко, стремительно, с шелковистым посвистом крыльев. Журавли летят днем. Нельзя без волнения смотреть, как высоко в небе движутся их клинья. И оттуда, с поднебесья, слышится призывное «курлы, курлы, курлы».
Иногда, чтобы отдохнуть и подкормиться, журавли по сигналу вожака снижаются и садятся на луг, а чаще всего на зеленые всходы ржи, как у нас называют — «зеленя». Садились они и за околицей деревни, недалеко от нашего дома. Поймать или подбить перелетную птицу была тогда мечта не только наша ребячья, но и взрослых охотников. Завидев журавлей, я, шестилетний мальчишка, брал небольшую палку и ползком близко подбирался к отдыхающей стае… Но стоило мне приподняться и замахнуться палкой, как стая, по тревожному сигналу вожака, взлетала. Я заходил с другой стороны, полз, поднимался, но, прежде чем успевал бросить палку в ближайшего журавля, стая опять взлетала и опускалась на другом конце поля. Однажды, после такой неудачной охоты, я возвращался домой. У овина встретил старика Калакутина, деда Михайлу. Сняв картуз, я поздоровался.
— Здравствуй, Федюша, — ответил дед. — Ты, часом, не журавлей ловил?
Я промолчал. Он, конечно, видел, как я гонялся за птицами.
— Этой палкой журавля не добудешь, — сказал дед Михайла. — Ружье надоть…
Я, конечно, тогда не поверил словам старика, да и никакого ружья у меня не было… И когда на поле снова опускалась стая, я опять гонялся за журавлями. Иногда подкрадывался совсем близко, уже видел их голенастые журавлиные ноги, но стоило мне приподняться, как стая поднималась и улетала…
Досадуя на свою неловкость и чтобы еще раз не встретить деда Калакутина, я задворками направлялся домой.
* * *
Девяти лет меня отдали в церковноприходскую школу. В покосившейся хате, в два окна, с вихрастой соломенной крышей, стояли три или четыре парты и несколько скамеек. На стене висела небольшая грифельная доска, привезенная из города нашим учителем Нилом Константиновичем. Нил Константинович приехал к нам в деревню из города. Говорили, что у него там вышли какие-то неполадки с начальством, а может, и с полицией. Староста наш, Корней Лунин, как-то проговорился по пьянке, что урядник просил присматривать за учителем. И если чего недозволенное заметит, докладывать. Но учитель вел себя пристойно: самогонку, как батюшка Игнатий, не пил, с учениками обращался строго, но справедливо, линейкой по рукам не бил, в угол не ставил.
Попа Игнатия ученики боялись. Жил он в соседнем селе (там и церковь была). А в неделю раз, а то и два приезжал на бричке к нам в школу читать закон божий. Плохо было тому, кто, бывало, не выучит молитву. Поп Игнатий таскал за волосы, давал подзатыльники, стращал наказанием господним. И если вдобавок на нерадивого ученика жаловался родителям, то дома тоже была порка.
Меня пороли не так часто. Отец хоть и был не прочь взять вожжи и полоснуть ими разок-другой, чтобы я поменьше баловался и почитал старших, да мать этих побоев не любила. А ее он уважал и слушал.
Чаще всех попадало от попа второкласснику Тимохе. Тимоха неплохо читал и решал задачки, но никак не мог запомнить ни одной молитвы. Завидя в окно попа, подъезжающего к школе, Тимоха просил приятелей подсказать ему, в случае спросят.
— Ильюшка, подскажи молитву, — обращался он чаще всего к своему соседу по парте. — Две бабки дам.
И когда поп Игнатий в длинной черной рясе садился за учительский стол, Тимоха притихал, съеживался, хотя и был не из робких. Трезвый поп иногда щадил его и не спрашивал. Но если был хоть немного подвыпивши, то, увидев Тимоху, сердито подзывал: