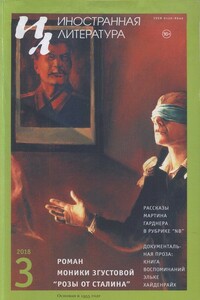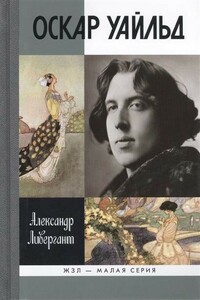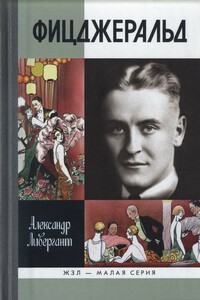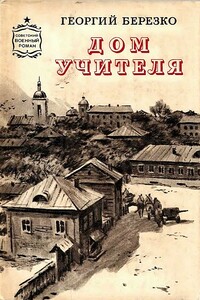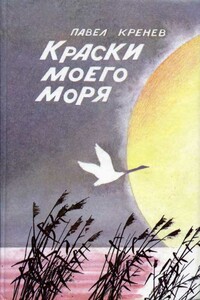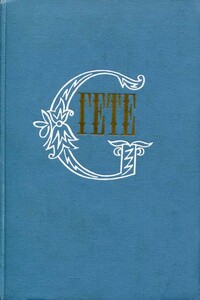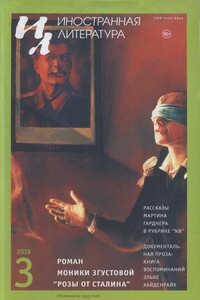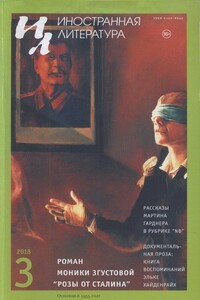Александр Ливергант
Йорик или Стерн
К 250-летию со дня смерти Лоренса Стерна
Бывает, не слово следует за мыслью, а мысль за словом. Назвал Лоренс Стерн 250 лет назад свое путешествие по Франции и Италии сентиментальным, и читатели, и критики сочли, что Стерн перешел от шутовства и буффонады «Тристрама Шенди» к патетике. Что развил в себе чувствительность как способ познания действительности. Что в своем «Сентиментальном путешествии» писатель призывает доверять не разуму, а чувству, непосредственному порыву, первому впечатлению[1]. Что — как писал молодой Толстой, цитируя «Сентиментальное путешествие», которое переводил, — Стерн «раскидывает на все стороны паутину любви». В отличие от своего соотечественника, также известного романиста, мизантропа Тобайса Джорджа Смоллетта, который годом раньше совершил путешествие по тому же маршруту и вместо паутины любви «раскинул» густую паутину скепсиса и раздражения. Чем, кстати сказать, заслужил единодушно высокую оценку лондонской критики: поносить Францию, «ближайшую страну, которая от нас дальше всех»[2], было во все времена в порядке вещей.
Французы, впрочем, тут ни при чем. Отведи ему Провидение «счастливейшее жилище на небесах, — пишет о Смоллетте Стерн, — он все равно вечно предавался бы там сокрушению»[3]. У простодушного, всему умиляющегося героя «Чувственного путешествия», как в 1803 году назвал роман его русский переводчик, Смоллетт, этот Смельфунгус, «страдающий сплином и разлитием желчи», вызывает искреннюю жалость: «Жаль мне человека, который способен пройти от Дана до Варсавии, восклицая: ‘Как всё бесплодно кругом!’». То ли дело Йорик, герой Стерна: «Окажись я в пустыне, я непременно отыскал бы там что-нибудь способное пробудить во мне приязненные чувства».
Нет, не таков Йорик, чтобы вслед за пытливым, дотошным Смоллеттом «измерять высоту домов, ничтожную ширину улиц, а также подсчитывать, на каком малом числе квадратных футов… совместно едят и спят большие семьи…». Информировать и поучать читателя в планы Йорика не входит, для этой цели он слишком нерадив и прекраснодушен. Не зря же рассказчик называет себя, помятуя шекспировского Йорика, «королевским шутом», «рыцарем печального образа». Такой, как Йорик, «редко доходит до того места, куда направляется», «не в силах управлять обстоятельствами» — это обстоятельства, с грустью отмечает он, сами им управляют. Что не мешает ему на всем протяжении своего недолгого путешествия — путешествия не столько по городам и весям, сколько по закоулкам своей впечатлительной души, — демонстрировать отменный, неунывающий нрав. В отличие от переплывших Ла-Манш соотечественников, которые, под стать Смоллетту, всем недовольны, над всем и всеми издеваются и ежечасно ждут подвоха, Йорик, можно сказать, — идеальный турист. Подобно вольтеровскому «Кандиду», он «наделен наиприятнейшим нравом», о вещах судит «довольно простосердечно», «приязненные чувства» испытывает куда чаще неприязненных и, как и Панглос, убежден, что «в мире все к лучшему».
В мире и во Франции, ведь во Франции «это устроено лучше». И не потому, что Франция так уж хороша; хорош Йорик. Он покладист: «Три недели сряду я разделял мнения каждого, с кем встречался». Легковерен — не чета подозрительному Смоллетту: «Если в человеке нет некоторой дозы неподдельного легковерия, тем хуже для него». Легкомыслен: «Если меня упрячут в Бастилию, я два месяца проживу на полном содержании французского короля». Расположен к окружающим: «Я способен с первого же взгляда почувствовать расположение к самым различным людям». Непосредственен: «В поступках своих я обыкновенно руководствуюсь первым побуждением». Влюбчив: «Одной из благодатных особенностей моей жизни является то, что почти каждую минуту я в кого-нибудь несчастливо влюблен». А все потому, что (опять же в отличие от Смоллетта) доверяет не разуму, а сердцу; он терпеть не может логических доводов, «трезвых представлений», «мертвенно-холодных голов». Предпочитает в затруднительных положениях не умствовать, а «прислушиваться к тому, что говорит чувство…» И убежден, что, «когда сердце опережает рассудок, оно избавляет его от множества трудов».
Йорик — но не Лоренс Стерн. Благодушия, чувствительности, эмоциональной раскованности, как мы сказали бы сегодня, у Стерна не в пример меньше, чем у его героя. Разума, логики, наблюдательности, язвительности — гораздо больше. О чем свидетельствуют едкие антифранцузские выпады, французам от Стерна достается ничуть не меньше, чем от его оппонента Смоллетта, от других английских франкофобов. Куда девается чувствительность и благодушие Йорика! Описывая французов, Стерн ни на йоту не отступает от устоявшихся британских стереотипов, в соответствии с которыми французы тщеславны, непомерно самолюбивы, спесивы, пускают пыль в глаза. Их блеск, отвага, куртуазность — показные. И это самый употребительный эпитет в описании «заклятого друга» не только у Смоллетта, но и у «сердобольного» Стерна. Величия у француза «больше на словах, чем на деле», и плох тот англичанин, который склонен копировать французский лоск: «Если бы нам, англичанам, удалось когда-нибудь при помощи постоянной шлифовки приобрести тот лоск, которым отличаются французы, — мы непременно бы потеряли присущее нам разнообразие и самобытность характеров». Насмешка же Стерна над французским королем носит иносказательный, в духе Свифта характер — понимай, мол, с точностью до наоборот. Бурбоны прославлены «своей рассудительностью и тонкими чувствами… они могут заблуждаться, подобно другим людям, но в их крови есть нечто кроткое». Французский монарх — «добрая душа, он никому не сделает зла». Разве что иноземному покойнику: отберет имущество умершего в дороге путешественника, руководствуясь законом «Droits d’aubaine».