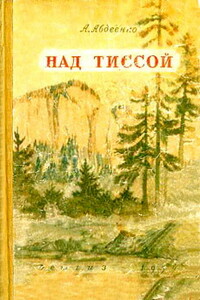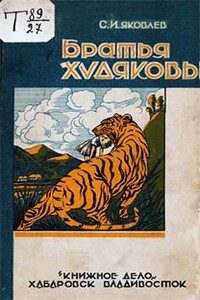Никанор поднял лохматую рыжую голову, оперся на локоть и, держась за бороду, одну секунду прислушивался. Сбросил с себя дерюгу, испуганно соскочил с нар вниз, на пол, где горбатый шахтер, сопя, завязывал лапти. Тронув его плечо, Никанор торопливо спросил:
— Давно гудет?
Горбун взглянул сонными глазами и, снова принимаясь за лапти, буркнул:
— Не, только што завыл.
Сквозь окна балагана сочился мутный рассвет. Сырой ветер врывался через одну дверь и, пролетев между двумя рядами двухэтажных нар, где на разные голоса храпело более ста измученных трудом мужчин, пропадал за другой дверью.
Успокоенный Никанор пошел к баку, сложил ладони ковшиком, набрал воды и метнул прозрачными искрами в глаза и бороду. Утершись подолом длинной полотняной рубахи, проворно надел лапти и направился в дальний угол балагана, где висела закопченная икона.
Прищурившись, он смотрел на темную дощечку с изображением девы Марии (ее купили артельно, вскладчину на ярмарке), тыкал себя в лоб, плечи и живот одубевшими пальцами и шептал:
— Дева Мария, матерь божья, пошли ты мне и моему Остапу добру людску долю. Пошли, матерь божья, не поскупись, не пожалей. Всю жизнь мы обездолены, всю жизнь бедствуем, дай нам вволю поесть хлеба с солью. Прояви свою небесну щедроту, матерь божья! Кому ж як не тебе проявить ее?!
Много еще слов теснилось в душе Никанора, но он оборвал молитву. Хватит! Пора на работу.
С двухэтажных нар один за другим уже поднимаются мускулистые угрюмые забойщики, веселые отчаянные коногоны, пепельнолицые молчаливые уборщики породы, чистотелые крепильщики; кто-то шумно зевает, кто-то слезно жалуется, что у него украли сапоги, кто-то просит опохмелиться, кто-то хрипло вопит: «Где портянки? Гады, кто прикарманил портянки?»
Никанор натянул на себя пропитанную потом и угольной пылью, латаную-перелатанную шахтерку, перебросил через плечо кожаную сумку — набор остро отточенных зубьев звякнул о железную флягу с водой. Вытащив из-под нар обушок, он теплыми пальцами любовно провел по отполированной мозолистыми ладонями поверхности черенка.
Балаган только еще просыпался, еще стонал гудок, а Никанор уже был готов. Он вынул из-под матраца завернутый в тряпку ломоть хлеба, подбросил его на ладони и, немного подумав, разделил пополам. Одну половину опустил в сумку, а другую снова положил под матрац. Уже шагнув к двери, передумал, вернулся к нарам, вынул из-под тюфяка ржаной кусок, спрятал его в сумку и тихо произнес:
— Утащат, окаянные.
Поправляя сумку и глотая обмятые хлебные крошки, Никанор заметил, что место на верхних нарах, где спал его сын Остап, пусто. Поглаживая бороду, Никанор с гордостью подумал: «До гудка побежал, старается! Так, Остап, так!»