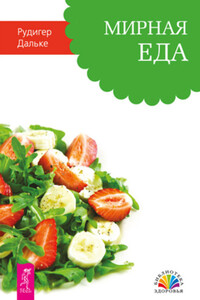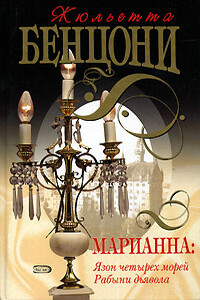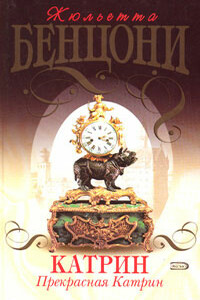В тысяча восемьсот семьдесят… уж не помню, каком, тридцать первого сентября… нет, простите, я оговорился, тридцатого, поелику в сентябре дней всего лишь тридцать, невысокий, дородный мужчина в длиннополом, просторном балахоне, только что высадившийся с трабзонского парохода[1], на пристани Галаты, кряхтя и натуживаясь, вытаскивал из причаленной к берегу лодки свою поклажу.
Видите, как просто я начал? Дабы сделать повествование своё как можно занимательнее и благодаря этому, по выходе его в свет, продать лишних несколько сот экземпляров, я мог бы сказать, что в тот день был сильный холод и шёл проливной дождь, что по направлению к площади Галаты бежала густая толпа народа, что на этой площади полицейские задержали какую-то девицу, что… и тому подобное, но не в пример нашим романистам, ничего этого я не сказал, потому что в тот день не было ни холода, ни дождя, ни валившей по улице толпы и никакой задержанной кем-то девицы…
Итак, нисколько не колеблясь, примите на веру сию историю — действительный случай, заимствованный из современной жизни.
Наш новоприезжий имел пару больших и чёрных глаз, пару толстых и чёрных бровей, пару длинных ушей и пару… нет, разумеется, лишь один нос, однако ж, он, право, сошёл бы и за два… А выражение лица новоприезжего было такое, что если б господин Вардовян[2] увидел этого человека своими глазами, то не преминул бы обратиться к нему с вопросом: «Сколько жалованья вы попросили бы, предложи я вам играть на нашей сцене роли идиотов?»
Выгрузив из лодки сундуки и увязанную в чехол постель и расплатившись с лодочником, новоприезжий крикнул носильщика. К нему подбежали сразу пятеро. Не подлежит сомнению, что позови он пятерых, пред ним предстали бы двадцать пять, ибо так уж заведено у нас в столице..
— Тебе в какую сторону, ага? — спросил один из носильщиков, поставив ногу на обвязанный верёвкой сундук.
— Пера, улица Цветов, нумер 2.
— Пера, улица Цветов?… Понятно. Это хорошая улица, — сказал носильщик и, взяв стоявший возле него большой сундук, пустился в путь.
— Улицу Цветов я тоже знаю, — сказал второй носильщик и, схватив другой, не менее вместительный сундук, заторопился в ту же сторону.
— Я каждый день бываю в Пера, — сообщил и третий, и новоприезжий не успел оглянуться, как тот ухватился за его зачехлённую постель, вскинул её на плечо и побежал.
Все эти действия совершились с быстротой неимоверной, так что человек в балахоне прямо-таки обомлел; с выражением крайней растерянности он начал озираться по сторонам в надежде увидеть своих носильщиков, которых, однако, уже и след простыл.
— Что за безобразие! — закричал наконец новоприезжий, топоча ногами. — Куда они унесли мои сундуки? Мою постель? Моё добро? Какое им дело до моих сундуков? До моей постели?… Какие, оказывается, нахалы, эти здешние люди… Что ни увидят, берут и уносят.
— Улицу Цветов мы тоже знаем, ага, дай и нам что-нибудь отнести, — заговорили вдруг и остальные носильщики.
— Да провалитесь вы все вместе с этой улицей Цветов! — ещё пуще закричал новоприезжий, весь красный от гнева.
Оба носильщика, расхохотавшись, медленно удалились, и новоприезжий уж собрался было пуститься в погоню за своими вещами, как к нему подлетел, нервно потирая руки, высокий, темнолицый, с маленькими глазками человек; с насильственной улыбкой на губах, он деликатным манером одною рукою обнял его за талию и спросил:
— Это вы и есть Абисогом-ага? Только что прибыли? На каком пароходе? Как чувствуете себя? Как поживает ваш брат? Хорошо ли идут в Трабзоне наши национальные дела? Почём там нынче хлеб? Был ли на днях в вашем городе ливень?.. Ах, Абисогом-ага! Ах, ах!..
— Да, я и есть Абисогом-ага, только что приехал, на турецком пароходе, чувствую себя хорошо, брат мой также, национальные дела… у нас тоже идут хорошо, хлеб стоит один гуруш… Нет, не было в Трабзоне ливня, — торопливо отвечал человек в балахоне точно с неба свалившемуся незнакомцу.
— Будьте великодушны, простите, вселюбезнейший, что я не смог приехать на пристань. Я знал, мне сообщили из Трабзона, что на этой неделе вы непременно прибудете к нам.
— Я на такие мелочи не смотрю и не обижаюсь.
— Наша столица почтёт за счастье лицезреть такого, как вы, соотечественника… столь одарённого, столь здравомыслящего…
— Мои сундуки…
— Столь честного и благородного…
— Носиль…
— Патриота…
— …щики…
— Преданного нации, образованного, просвещённого…
— Сунду…
— Добропорядочного…
— …ки мои унесли.
— Добросердечного, возвышенного…
— В моих сундуках таких вещей не было, — произнёс вконец ошеломлённый Абисогом-ага и устремился вперёд.
— Хоть вы меня и не знаете, но я очень хорошо знаю и вас и всё ваше семейство. Блаженной памяти родитель ваш был подписчиком моей газеты. Добрый был человек, нищим в милостыни не отказывал, бедных девушек замуж выдавал, всех, кто обращался к нему за помощью, ублаготворял. Подобные милосердные люди должны бы жить возможно долее, но, увы, безжалостная смерть сперва уносит добрых… Оставим, однако, прошлое и поговорим о чем-нибудь другом. Покойно ли вам было на пароходе?
— Очень, очень! Ел, пил, спал, — ответил Абисогом-ага и наддал ходу.