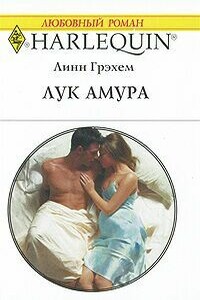1. Трансформация памяти
Эта книга затрагивает довольно много проблемных точек в истории культуры, политической истории и в исторической динамике революционных движений, что (в таком масштабе) несколько непривычно для русскоязычного поэтического контекста. Поэзия здесь не только стремится к личной проработке «исторических травм», к передаче исторического опыта через поэтический, но и находится в интеллектуальном диалоге с философией истории ХХ века — прежде всего, с работами Вальтера Беньямина и Франклина Р. Анкерсмита. Стихотворение осмысляет себя как действенный способ работы с историей, как «историческая практика» и даже как переизобретение истории. Сегодня очевидно, что работа с историей не может быть подчинена логике «нарративного фетишизма»[1] или логике навязчивой фактичности. Поэтическая работа с историей в этом смысле приобретает чрезвычайную важность, предоставляя доступ к неисторицистскому ее ви́дению. Структура поэтического текста позволяет сопрягать события в иной темпоральности, она предполагает параллелизм и одновременности, способность размыкать травматические круги и отражать не воображаемую последовательность исторических событий, но порождаемый ими «разрыв», трансформирующий как личный, так и коллективный опыт. Говорить об истории как о «разрыве» более осмысленно, чем говорить о ней как о последовательном нарративе, и именно поэтому поэзия, всегда внимательная к опыту прерывности, становится ближайшей спутницей истории, высвечивает внутри поэтического языка структуры исторического опыта. «Разрыв» связан не только с тем, как рождается и переживается событие, но и с бездной утраты; можно даже сказать, что утрата и событие возникают одновременно, окрашивая историю в меланхолические, ностальгические тона.
* * *
Для стихов Кирилла Корчагина важно представление о культурной памяти, поскольку историческая работа разворачивается в них не столько через отсылки к непосредственным переживаниям столкновения с прошлым, сколько через размещение самого чувственного переживания в воображаемом ландшафте, где все события предстают в уже опосредованных, кристализированных, закодированных формах. Но событие при этом не умерщвляется, лишаясь своего истинного заряда, его все еще можно особым образом переживать, участвовать в нем. Анализируя представления о культурной памяти у Вальтера Беньямина и Аби Варбурга, Кристиан Эмден пишет:
сама идея культурной памяти нацелена на детальное описание подводных течений истории, непрямых и опосредованных влияний, всего того, что мы можем предварительно обозначить как «неосознанные пережитки прошлого» (unconscious after-life of the past). Другими словами, историческая память требует от нас отслеживать воображаемые констелляции исторических смыслов[2].
И далее:
Культурная память, если смотреть на нее из перспективы Беньямина и Варбурга, состоит не только из всем очевидных проявлений исторических традиций, что так или иначе ритуализируются или припоминаются в конкретных социальных ситуациях, например на День поминовения, — но скорее понятие, с помощью которого мы описываем неосознанные следы, скрытые взаимосвязи, забытые детали и символические репрезентации того, что, в общем и целом, мы обыкновенно определяем как «историческую традицию». Мы могли бы теперь точно сказать, что культурная память — это вовсе не одна из форм этой традиции, но что сама историческая традиция с несомненностью входит в область культурной памяти[3].
Работа культурной памяти в искусстве и литературе предполагает сложное «трансвременное» перемещение внутри пространства истории. «Обломки культуры» разнесены далеко друг от друга во времени — они не факты, а символы, смещающие время, прошлое, создаваемое в настоящем, где гнойный гельдерлин под муравьиным стеклом / из задроченной дремы получает реляции / с первой чеченской где огненна сталь ангаров. Культурная память не есть непосредственное подключение к событию, но искусство, воображение, перманентно трансформирующее, метафоризирующее и символизирующее исторический смысл. Культура, существующая как символическое и репрезентируемое пространство, сама по себе устроена как пережиток, утрата, и переживание истории невозможно без осознания нехватки смысла в настоящем, без недостающего звена, причем это звено оказывается «слабым» — оно далеко не всегда смыслообразующе, скорее оно — призрачная прибавка, мельчайшая частица в потоках событий и образов.
* * *
То, что случилось, уже всегда утрачено, но эта утрата не оставляет нас сразу после события, повторяясь и возникая как трещина в нашем повседневном опыте и культурной памяти. Утрата и травма возвращаются в виде навязчивого повторения, меланхолической вневременности и замкнутости. Если историческое переживание тесно связано с утратой и пережитком, то оно неизбежно обретает меланхолическое измерение и, помещаясь внутри субъекта, образует внутри него зияющую дыру. Это нечто, что было утрачено и не будет никогда заново собрано, отреставрировано; история никогда не обретает целостности, она всегда — ноющий осколок. Вокруг утраченного объекта, вокруг таких осколков организуется беньяминовское видение исторического процесса. И оно живет «под знаком Сатурна», как и меланхолические распадающиеся, блуждающие в руинированных ландшафтах субъекты стихов Корчагина. Они обращаются к утраченным культурам (античность, романтизм, экспрессионизм, революционный авангард и советская поэзия 1920–1940-х), собирая из осколков этих культур свое настоящее. Само это меланхолическое обращение к утраченным культурам и методам письма знакомо нам, прежде всего, по романтической эстетике, где личное не могло быть отделено от исторического, замкнутое — от внешнего, эстетическое — от негативного. Именно в романтическом субъекте трансформация психического в столкновении с историческим была явлена впервые: романтический аффект стремился пробить дыру в безвременье, дать каждому доступ к временно́му ландшафту. Психическое, чувственное, до неразличения сливаясь с историческим, культурным в романтической эстетике, делали временну́ю субстанцию чрезвычайно подвижной, революционизировали время.