У каждого писателя свой мир. Чем этот мир значительнее, чем глубже писатель показывает отношения между людьми, тем больше воздействие его произведений на разум и сердце читателя. В этом разделе книги я попытаюсь рассказать о том, как создавался мой писательский мир.
* * *
О, байки, байки, байки,
Прилетали голубки.
Стали гули ворковать,
Стал Сережа засыпать.
Убаюкивала под эту песенку меня мать. Другой раз просила брата Леню, чтобы он качал зыбку. Тот качал и последнюю строчку пел так: «Стал Афоза запаять». Это было смешно, взрослые смеялись и любили вспоминать даже спустя годы. Поэтому, наверно, я и запомнил свою колыбельную.
Не знаю почему, но запомнил сказку, которую рассказывала мне мама. Это известная сказка «Терем-теремок», только не та, которая встречается сейчас в разных обработках, а прародительница их. Нет необходимости рассказывать ее со всеми повторами, но назвать действующих лиц стоит, ибо в них-то и есть вся изюмина. Муха — Жужжака, Комар — Верещака, Паут — Певун, Лягушка — По воде бархат, Мышь — Подугольный шмыхтер, Заяц — Полевое — стрекало, Лиса — Лесная украса, Волк — Из-за куста хамка, Медведь — Лесной гнет.
Таких удивительно метких, оригинальных характеристик я нигде не встречал, ни в каких книгах.
До четырех лет жил, как в небытии. Первое, что зримо запомнилось, так это матросы в машине и на груди у пих пулеметные ленты крестом.
С шести лет в памяти осталось многое.
Отца от Петрокоммуны послали в Сибирь «на заготовку и отправку ненормированных продуктов в адрес Петрокомпрода». Ехали мы в теплушке — так тогда называли товарный вагон с круглой печкой и трубой, выходившей прямо в крышу. Кроме нас — отца, матери и меня с братом, — ехало еще несколько семей с детьми. В вагоне все время что-то варили, жарили, потому что печка была маленькая, на ней едва умещались кастрюлька и чайник. К тому же еще и стирали, и тут же, в вагоне, натянув веревки, сушили белье.
Поезд то мчался, останавливаясь только на больших станциях, и то на такой короткий срок, что еле успевали набрать кипятку; то вдруг застревал на каком-то полустанке, наш вагон отцепляли, загоняли на запасный путь, и тогда отец бежал к «железнодорожным властям», показывал свое удостоверение, нас прицепляли к первому отходящему составу, и мы мчались дальше. Случалось, что никакие уговоры, убеждения и само удостоверение не помогали, и тогда отец брал из бочонка несколько селедок, ругаясь, шел к начальнику, и вскоре наш вагон содрогался от сильного удара в буфера, — с печки на пол летел чайник или кастрюлька, раздавался испуганный детский плач, — и это означало, что вагон прицепили, и мы снова ехали дальше.
Был уже конец сентября, но, насколько помнится, стояли солнечные теплые дни, потому что двери с обеих сторон были открыты и в проемах сидели на лавках те, кто помещался на нижних нарах. Эти открытые двери запомнились еще и потому, что в пути произошел такой случай.
В вагоне нежданно-негаданно появился щенок с черным пятном на одном глазу, с мягкими большими лапами. Его подобрал на какой-то станции отец. Ему везло на собак или, вернее, собакам везло на него. Мальчишкой вечно возился с ними: зимой запрягал в санки и лихо катался по улицам своего села. Эта привязанность к животным сохранилась у него на всю жизнь, — увидит ли бездомную кошку или бродячую собаку, непременно приведет домой. И всех собак, невзирая на их принадлежность к полу, называл одинаково: Бум. Щенка тоже назвал Бумом.
Все ребята, сколько нас было в вагоне, возились с ним, гоняли под нарами, ловили, и вдруг щенок, удирая от кого-то, заигравшись, выскочил из вагона, шмякнулся о сухую землю, вскочил, но даже не побежал за вагоном, будто все сразу понял, и остался один в неоглядной пустой степи.
На какой-то станции мы впервые с братом увидали белый хлеб, высокий, с румяной коркой, разодранной печным жаром. Он лежал на полотенце у молодой тетки. Она, наверно, заметила, с какой жадностью мы смотрели на него, и протянула его нам.
— Мама! — тут же закричал я. — Тетя дает хлеб. Белый!

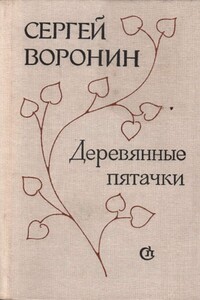
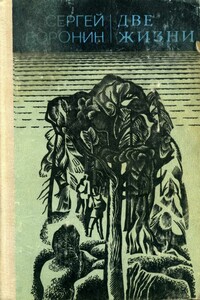



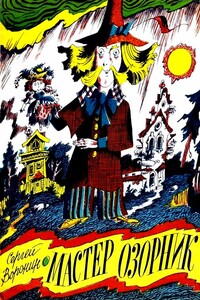



![Поиск истины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/7f/7fd50d2c382e0143e5065795ea84b3942e397d38.jpg)
