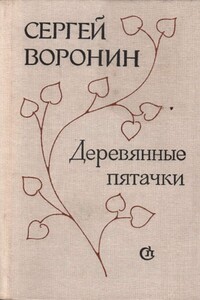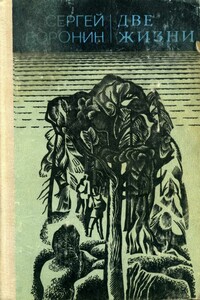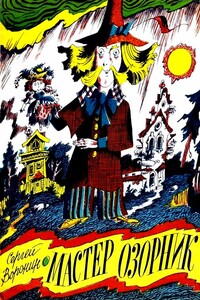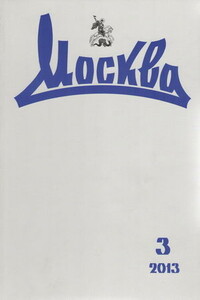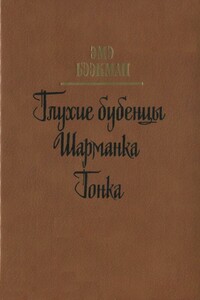«Ну почему мы не умеем ценить настоящее? Почему? Все на что-то надеемся, ждем лучшего и упускаем то, что в наших руках и что никогда уже не вернется и потом вызовет только сожаление, позднее, горькое, когда словно ножом ударит в сердце воспоминание!»
Так или примерно так думал Александр Николаевич, с печалью глядя на скалистый берег, поросший кривыми соснами, на тростники, желтой полосой протянувшиеся вдоль озера, на вылезший со дна большой круглый валун, застывший во льду.
Приехал сюда Александр Николаевич с группой сотрудников НИИ, таких же заядлых рыбаков, как и он сам, и вот все разбрелись по весеннему льду и уже сидят, каждый на своей лунке, а он все стоит, оглядывает берег, смотрит на этот валун и вспоминает то, что было давно, лет двадцать пять назад.
Да, это было на другой год, как кончилась война, и он, молодой, охотясь в этих местах, набрел на лесную сторожку. Это было весной, а летом он привез сюда Марию.
Удивительно, как они относились друг к другу, словно играли понарошку. Легко встретились, легко она согласилась сюда с ним поехать, — у нее был отпуск, а он нигде не работал, готовился к поступлению в институт. Легко думал с ней расстаться. Похоже, и она так же.
— Слушай, ты здорово это придумал! — оглядывая маленький, срубленный из толстых бревен домишко с печкой и окном, восторженно говорила она. — Это же как в сказке! Тут наверняка где-то должен быть лесовичок. Может, ты лесовичок?
— Конечно я, только почему лесовичок? Лесовик!
— Ну конечно лесовик! И как это я сразу не догадалась. Прости меня, Лесовик, что я тебя чуть-чуть умалила.
— Не прощу, пока не поцелуешь сто раз!
— Сто? Это слишком много. Я думаю, вполне хватит и девяноста девяти...
И они начинали целоваться, и сбивались со счета, и смеялись, и начинали снова.
Это была какая-то действительно безрассудно-счастливая жизнь, когда ни о чем не думается и, кажется, есть все, чем богат мир.
Не было стола, и он сделал стол. Не было табуреток, и он стал их мастерить.
— Да ты просто молодчина! — восторгалась Мария, глядя, как он легко и красиво обделывает жерди, колет на плашки чурбаны и из них ладит сиденья. Так же просто и прочно он сделал топчан.
— Настоящее царское ложе! — смеялась она.
— Как у Петра Первого, помнишь, в его летнем дворце, широченное. Любил батюшка-царь порезвиться...
— Жужас! — смеялась она.
Замечательное в той жизни было во всем, и в том, что к ним никто не мог прийти. Сторожка, по всем приметам, была слажена до войны, в войну ее хозяин то ли погиб, то ли перебрался в другое место, и, похоже, никто не знал о ее существовании. И вот они ее хозяева. Разве это не замечательно!
С одной стороны сторожку скрывал густой ивняк, с другой подступал бор. Была еще третья сторона — там возвышался бугор с березняком, а с четвертой стороны было озеро. Но до него широкая поляна, кусты, так что и отсюда никто не мог видеть сторожку. И казалось им, будто попали они на необитаемый кусок земли. Куда бы ни пошли, в какую бы сторону ни направились, везде их встречала дичь и глушь. С грохотом вылетали из-под ног тетерки. Кубарем катился заяц. Лось лениво бежал в редколесье. А в камышах крякали утки и, не боясь людей, выплывали со своим выводком на чистое.
— Никогда еще не жила в таких местах! — говорила Мария, и ее глаза светлели от радости. — До чего же здесь хорошо! Просто спасибо тебе!
— Это все твое, — щедро дарил ей леса, птиц, зверей Александр.
— Неужели это все мое?
— Да, и еще озеро со всеми островами и рыбами.
— И тот камень мой? — она показывала на валун, вылезший из воды и обросший, словно волосами, зелеными водорослями.
— Твой!
— Ты очень щедр, Лесовик. Благодарю тебя! — и она склоняла голову, и от этого ее коротко остриженные волосы рассыпались, открывая тонкую шею с темной ложбинкой посредине.
Просыпались они от пения птиц, которое доносилось до них через окно. Легко вздыхали и, улыбаясь, глядели друг на друга. Он обнимал ее, притягивал к себе, и она покорно прижималась к его груди. Было что-то трогательно-доверчивое в таком ее движении. И они снова засыпали, и когда просыпались, то уже солнце освещало избушку. И тогда они, схватив полотенца, выбегали наружу и, держась за руки, неслись к озеру. Длинная, перепутанная трава захлестывала им ноги, и они спотыкались и хохотали так, что из лесу откликалось эхо. И небо, необычайно высокое, без туч, охраняло им этот мир. И тишиной, согретой водой встречало их озеро.
Вначале, прежде чем раздеться, они оглядывались, опасаясь, а вдруг кто-нибудь их увидит. Но никого не было ни вблизи, ни вдали. И тогда, сбросив все, они кидались в воду и там начинали гонять друг за другом — она неплохо плавала, — и кричали так, что утки всполошенно подымались из камышей и уносились на другой берег.
Камень эпически спокойно торчал из воды. На его горбушке часто сидели чайки, и от этого она была белой, словно намазанная известью. Вся остальная его часть до самой воды была серая, в трещинах от морозов и солнца, похожая на кожу слона, и у самой воды в зеленых шелковистых водорослях.
— Значит, ты мой, — подплывая к нему, говорила Мария. — Ты немного угрюмоват, мой камень, но я понимаю, тебе не до веселья. Все один да один. Ну ничего, теперь нас трое. — Она оплывала вокруг него, отыскивала более пологую часть и взбиралась. Запрокинув голову, стояла, подставив себя солнцу.