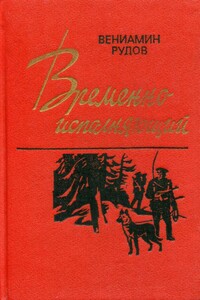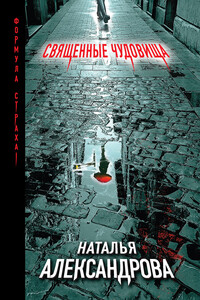Лайнер стремительно набирал высоту, одновременно делая разворот. Через несколько минут Суров увидел далеко внизу раскинувшиеся на холмах городские кварталы, тонувшие в вечернем сумраке, серую громаду хабаровского аэропорта, окаймленную двумя рядами огней, взлетную полосу и извилистую ленту Амура.
Самолет взял курс на Москву.
В хлопотах, в предотъездной суете Суров на какое-то время забыл об одолевавших его в последние дни неприятных мыслях, он порядком устал и сейчас, сидя в кресле, не спешил к ним вернуться. Было хорошо сидеть, вытянув ноги и закрыв глаза.
Однако по мере удаления от Хабаровска Сурова вновь охватило беспокойство: после пяти лет службы на дальневосточной границе придется привыкать к условиям запада, где свои особенности и свои сложности. Он был достаточно хорошо информирован о положении дел на западных рубежах, знал: там сложно и напряженно, куда сложнее, чем когда он там служил. Понимал, что на новом месте, в новой, более ответственной должности с него спросят вдвойне. И все же свой отъезд Суров рассматривал едва ли не как бегство с переднего края: на дальневосточном рубеже слово «противник» звучало отнюдь не абстрактно.
— Все!.. Все!.. — твердил Суров как заклинание от щемящего чувства неловкости и невосполнимой утраты. Сердечная горечь, однако, не проходила.
Самолет качнуло на «яме».
Прошли над выбеленной снегом Подкаменной Тунгуской.
— С ума сойти можно! — воскликнула Вера, порывисто обернувшись к Сурову. — Правда, красиво?
— О чем ты?
— Красиво, говорю, как!
— Да, красиво.
Всякий раз, пролетая над этими местами, Суров не переставал восхищаться распростершейся внизу громадой.
— Хорошо бы это написать, — произнесла Вера, не отрываясь от иллюминатора. — Синее пространство — жуткая синяя пустота, а внизу — не земля, нет, лишь призрак земли… даже не земли, а какого-то кукольного ее макета. И одинокий, как ранняя звезда, самолет. И написать все это надо будет ужасно натурально.
— Но тогда не будет величия, — заметил Суров.
Вера усмехнулась:
— А что, если тебе в искусствоведы переквалифицироваться? Не видеть картины и судить о ней — это у нас могут позволить себе только опытные искусствоведы. — Ей, очевидно, были неприятны слова мужа, и она быстро перевела разговор на другую тему: — А что, собственно, «все»?
Суров не понял и только пожал плечами.
— Ну, ты только что повторял «все, все».
Суров помолчал.
— Это трудно объяснить.
— Тяжело уезжать с насиженного места?
— Тяжело.
— А я очень рада. Сыта по горло. Извини.
Суров вспомнил, как пять лет назад Вера радовалась приезду в этот край: для нее тогда все было новым и интересным.
— Ты всегда чему-то рада. — Он улыбнулся. — Особенно приездам и отъездам.
Она поняла, о чем он говорит, и тоже улыбнулась.
— Да, милый, я — неисправимый романтик. Хоть мне всегда это выходит боком. Как и многим другим, наверное.
— Уж мне-то твой романтизм явно вышел боком, — бросил Суров, выпрямившись и поглаживая бока.
Вера рассмеялась. Вспомнила: однажды на Дальнем Востоке муж пошел провожать ее на этюды. Она торопилась, поскольку только что прошел дождь и ей хотелось успеть написать уходящую грозовую тучу с верхушки сопки. Суров неожиданно поскользнулся, упал на этюдник, который нес, и повредил два ребра.
— Сам виноват, — вдруг оборвав смех, сухо сказала она.
При всем внешнем благополучии отношения между ними были весьма прохладными. Спасала работа.
Суров сейчас был благодарен жене за то, что она не стала проявлять особого восторга по поводу их отъезда из Карманово, не выказывала радости, собираясь в дорогу, молчала в машине, когда пробирались через тайгу на ближайшую станцию. Именно так, по мнению Сурова, и должна была складываться их жизнь: без излияния чувств, без излишних раздражающих эмоций. Однако Вера и не пыталась скрыть радости, когда он рассказал ей о своем разговоре по телефону с полковником Васиным — тот заблаговременно позвонил, спрашивая его, Сурова, согласия в отношении перевода. Да какое там могло быть несогласие, если полковник сразу сказал, что вопрос, собственно говоря, уже решен — так распорядился начальник погранвойск, и всякие доводы не в пользу приказа беспредметны. В конце разговора Васин намекнул и на некоторую перспективу роста в ближайшем будущем.
Лайнер летел над заснеженными горами, которые искрились, отбрасывая громадные тени. В розоватой дымке заката загадочно синела тайга. Суров понимал, что если не навсегда, то уж, конечно, надолго прощается с этими местами.
Он вздрогнул от неожиданно раздавшегося у уха голоса Веры:
— Скоро Ханты-Мансийск?
— Через час. Примерно через час.
— Уж скорей бы! — Она зевнула, прикрыв рот тыльной стороной ладони, и улыбнулась. — Скоро перевалим через Уральский хребет, а там — Европа. Ев-ро-па! Буду спать. Как там твои солдатики говорят? «Солдат спит — служба идет»?
— Так говорят плохие солдаты.
Опустив спинку кресла и устроившись поудобнее, Вера сыронизировала:
— Да, хорошие солдаты — это те, которые вообще ничего не говорят. — И, закрыв глаза, добавила: — Из меня бы, Суров, получился плохой солдат. Я люблю поболтать. И поспать люблю. — Она открыла глаза и сказала уже другим, серьезным тоном: — Устала. Но очень рада, что мы летим в Москву.