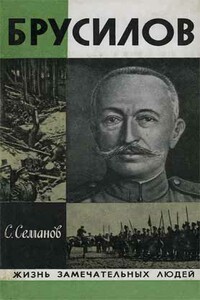Проснулась рывком.
Тихо. Спит.
Ура! Вся ночь — мне.
Сначала — пожрать.
На кухню к холодильнику.
Вываливается кус света в темноте.
Со сна рыщу на полках. Что-то свернула. Оп — подхватила, не нашумела. Уф.
А вот и он, сыр.
Борюсь с пластиковой пупкой. Должно автоматически раскрываться: подцепил — и пошло. Подцепил — и не пошло.
Вскрываю ножом.
Заправляю кус сыра в рот.
Из комнаты Макса скрип. Оборачиваюсь, как вор.
Там меняется звук.
Сначала тихий, потом явственный скрип.
Он начинает дышать, как дышат, проснувшись.
Ночь пошла заново.
То была одна я.
А теперь еще кто-то есть.
— Ну что ты?
У меня в лице проколупываются глаза, нарастают щеки, голова обрастает ворсом — пригладить ворс.
Нельзя ж лахудрой.
Топ-топ-топ. Смотрю глазками.
— Ты ок?
— Ок!.. Пожрать надо. На самом деле — не ок. Живот крутит.
Он держит руки косолапо, смотрит жалобно.
У киски боли, у собачки боли, а у Макса заживи.
Мы стоим, смотрим друг на друга — большой зверь в синей пижамке, маленький и прожорливый в зеленой.
Стоим и смотрим жалобно:
— Кто-то съел мой сон.
Ты съел мой сон. Я съела твой сон.
У киски боли, у собачки.
Я сижу на постели, глажу ему живот. Думочка под голову. Ты лежи, спи, спи.
Ну, вот, и пройти должно.
— Если б тут была мама — она бы помогла. Какая от тебя помошь! — говорит Макс.
— Вот, глажу, — говорю я. — Я тебя замусю. Со мной ты заснешь.
Ночь глянула в окно, посмотрела на нас всех, подышала мордой и ушла.
Ничего не будет. Никто мне не позвонит, меня не высвистит. Серенький волчок не придет, не утащит за бочок — нужны мы ему, скучные взрослые люди!
Все кончилось.
Ты лежи, спи, спи. Глажу, глажу по животику.
Утро вечера мудренее. Спи.
— Вот и славненько, вот и ладненько.
А у него болит животик. А у меня ничего не болит.
А у меня зато никогда не пройдет.
А у меня и ушко не болит.
И у меня не пройдет.
А у меня и голова после вчерашнего не болит.
А у меня не пройдет.
А у меня и ручки не болят, и ножки не болят.
И спится мне в постельке сладенько.
И у меня никогда не пройдет.
Я — навсегда сломаная, и не починить.
— Аа-аа-аа-а! Баю-бай, оченяты закрывай.
И я пойду.
Вспоминать о том, как это было прекрасно.
2. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО
— Великолепно, великолепно! Я давно не был так тронут! — дряхлое человеческое тело испытывает восторг. Дряхлое человеческое тело положило мне лапку на плечо, и в глазах слезы старости наплывают на слезы радости. Голова, как белый одуванчик, поднялась и поплыла в волнах музыки. На миг ему кажется, что он, бедный старичок, ступит с волны музыки и пойдет, легкий и сильный.
Молодой пианист скорчился за роялем. Сморщился, почернел, высвобождает из черной коробочки волны музыки — вольные, светлые, они подхватывают старичка. Он давно не был так тронут, так светел, так свободен.
— Как играет! Какой восторг!
Он давно не был так тронут. Под желто-белым сводом с казенными колоннами, на бесплатном концерте с двумя с половиной посетителями, на бесплатном концерте, который равнодушная рука поставила в программу. Как часть культурной программы — бесплатный концерт, пианисту в зубы — 400 фунтов. Забежал, сбацал, положил в сумку, вкочил на подножку, побежал с пацанами квасить.
— Через десять лет, поверь, Лотта, — билеты на его концерты будут стоить сотни! (А где мы с тобой будем через десять лет, Джон?)
— Скажите вашему другу… Ах..! — он снимает лапку с моего плеча, машет рукой. Не в силах говорить.
Молодой пианист подъехал на аккорде к порогу, тпруу — остановил черных коней. Музыка поднесла старичков к порогу: ну, все, приехали. Они завозились, засобирались, роются по карманам: где билет… А на глазах еще слезы.
Пианист вынул руки из музыки, обрастает мясом, возвращается в человеческий вид. На губах проступают краска и спокойствие. Тени вокруг глазниц — провалами — превращаются в легкую синеву и акварельную тень от ресниц. Все. Отыграл. Спускается со сцены, зовет нас с Кириллом — айда!
Он еще вежливый, чистенький, взволнованный представлением мальчик, юный профессионал, который относится ответственно к любому концерту — в центральном концертном зале — или таком вот, во второразрядном институте. Стройный, гибкий, с черными кудрями. Но из-под манжет выглядывают мужские запястья, в глазах — взрослая усталость. Чернота. Пепел. Он давно уже взрослый. Привык.
— Хорошо отыграл? — спрашиваю из вежливости.
— Я по классу плохо не играю, — говорит он снисходительно, поправляя меня: так, мы же договорились — краше меня здесь солнца нет? — Молчу, молчу! Конечно, нету!
…На глазах у старичков слезы, а стариковская жизнь подступает со всеми своими вязкими мелкими загадками. Где ключи? Где кошелек? Лотта, посмотри, где там автобус. Ты еще плачешь, Лотта? Да, было замечательно. Стоят на остановке, роются в сумках, облепили столб и читают расписание, беспокоятся. Старушка ловит прохожих, спросить, та ли остановка. Почему, почему старики так мешкотны — что они так боятся упустить? …Загадка. Загадка, над которой я думаю полсекунды, а потом забываю навсегда.
— Очень, очень талантливый молодой человек! — говорит старичок Джон. — Юный Рахманинов.
Юный Рахманинов. Другой Рахманинов. Рахманинов кокаиновый, расхлябанный, строгий, с женскими слезами, с абортами, с визовыми проблемами, с ночной слепотой, с русским матом посреди английского фака, с «побрей п….» из динамиков, с водочкой и cartoshechka с укропчиком — стоит молодой хулиган посреди качающейся черной комнаты. Вокруг армия собутыльников. В углу — верная шлюха.