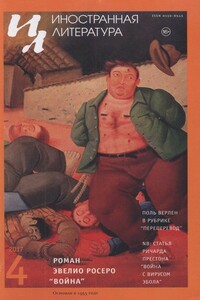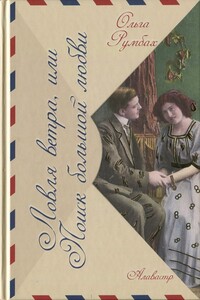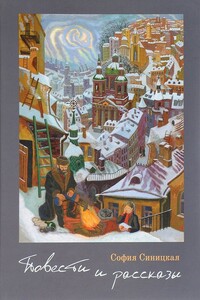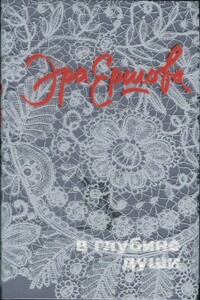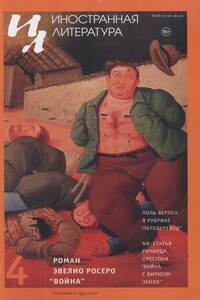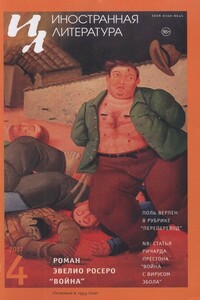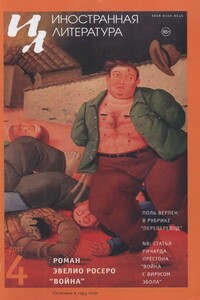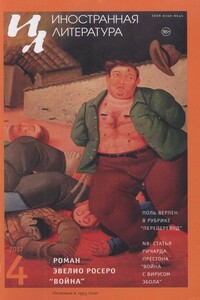Посвящается Сандре Паес
А не опасно притворяться мертвым?
Мольер
Обычно бывало так: в доме бразильца целыми днями смеялись гуакамайо[1] — я слышал их через ограду, когда стоял на приставной лестнице и собирал в большую пальмовую корзину свои апельсины; иногда я чувствовал спиной пристальные взгляды трех котов, сидевших каждый на своем миндальном дереве, а что они мне говорили? да ничего, я никогда их не понимал. Еще дальше за моей спиной жена кормила рыбок в пруду; так мы и старились: она и я, рыбки и коты, а что мне говорили моя жена и рыбки? да ничего, я никогда их не понимал.
Солнце уже вовсю приступало к делу.
Жена бразильца, стройная Джералдина, грелась на веранде, совершенно голая, растянувшись ничком на пестром красном матрасе. Рядом с ней в прохладной тени хлопкового дерева огромные руки бразильца умело перебирали струны гитары, и голос его звучал спокойно и протяжно, перемежаемый ласковым смехом гуакамайо; так и текло время у них на веранде, с солнцем и музыкой.
На кухне красивая кухарочка — все называли ее Грасиэлитой — мыла посуду, взобравшись на желтую табуретку. Я видел ее через неостекленное окно, выходившее в сад. Надраивая посуду, она непроизвольно вертела попой: под короткой белоснежной юбкой каждый миллиметр ее тела ходил ходуном в такт неистовой, увлеченной работе; тарелки и чашки так и сверкали в смуглых руках, иногда из них выныривал зубчатый ножик, сияющий и счастливый, но все равно как будто окровавленный. Он тоже не давал мне покоя, этот как будто окровавленный ножик, не только Грасиэлита. Сын бразильца Эусебито подглядывал за ней, а я следил, как он, сидя под столом с ананасами, подглядывает, но она, святая простота, думала о своем и ничего не замечала. Бледного и дрожащего Эусебито — это были первые тайны, которые он для себя открывал, — завораживали, лишали покоя мягкие белые трусики на упитанных ягодицах, и, хотя разглядеть их с такого расстояния я не мог, это лишь усугубляло дело: я их себе представлял. Грасиэлите, как и Эусебито, исполнилось двенадцать. Она была почти толстушкой, но складной, с розовым румянцем на золотистых щеках, черными кудрявыми волосами и черными глазами, а ее грудь, два маленьких крепких плода, торчала так, будто тянулась к солнцу. Грасиэлита рано осиротела, потеряв родителей во время последней атаки на наш город какой-то из армий: то ли боевиков, то ли партизан; заряд динамита взорвался тогда посреди церкви, где перед обрядом причастия собралась добрая половина горожан (шла первая месса Великого четверга), четырнадцать человек погибло, шестьдесят четыре получили ранения, а девочка чудом уцелела, потому что в это время продавала в школе сахарные фигурки; с тех пор уже два года по рекомендации падре Альборноса она жила и работала в доме бразильца. Под умелым руководством Жеральдины Грасиэлита научилась готовить и даже придумывать собственные блюда, так что Жеральдина уже целый год, не меньше, и не вспоминала о кухне. Я об этом знал, потому что видел, как жена бразильца каждое утро загорает и пьет вино, то лежа, то стоя, заботясь лишь о цвете кожи и натуральном аромате волос, как будто речь шла о цвете и качестве ее души. Неспроста ее длинная каштановая шевелюра крылом накрывала любую улицу Сан-Хосе, нашего доброго городка, когда Жеральдина доставляла нам удовольствие своим выходом на прогулку. Предприимчивая и еще молодая Жеральдина хранила у себя весь заработок Грасиэлиты: «Когда тебе исполнится пятнадцать, — говорила она Грасиэлите, — я отдам тебе все до последнего песо и много чего в придачу. Ты сможешь выучиться на портниху, заживешь в достатке, выйдешь замуж, мы станем крестными твоего первенца, и ты будешь навещать нас каждое воскресенье, правда, Грасиэлита?», и смеялась, я это слышал, и Грасиэлита тоже смеялась; в этом доме у девочки была своя комната, где по вечерам ее ждали собственная кровать и куклы. Мы, ближайшие соседи, могли положа руку на сердце подтвердить, что с ней обращались, как с родным ребенком.
В любое время дня дети могли обо всем забыть и играть в пронизанном солнцем саду. Я их видел. Я их слышал. Они носились между деревьями, скатывались в обнимку с мягких травянистых склонов, окружавших дом, а после игры, после бессознательно сплетенных рук, соприкасающихся шей и ног, смешанного дыхания, оправлялись восхищенно наблюдать, как прыгает желтая лягушка или как причудливо извивается между цветами змея, заставляя их цепенеть от страха. Рано или поздно раздавался голос с веранды — голос Жеральдины, все такой же голой, вибрирующей в солнечном мареве, и ее голос тоже напоминал пламя, обжигающее, но гармоничное. Она кричала: «Грасиэлита, пора подметать в коридорах».
Дети прекращали игру, и унылое разочарование возвращало их на землю. Грасиэлита опрометью мчалась через сад, чтобы взять метлу, белое форменное платье волновалось у нее на животе, как знамя, облепляя юное тело и прорисовывая лобок; Эусебито бросался за ней и незаметно, против воли, втягивался в новую игру, в лихорадочное возбуждение, роднившее его со мной, хоть он и был ребенком, в пугающую игру, в эту непривычную, но неумолимую потребность шпионить за ней, жадно разглядывать ее профиль, мечтательные, как у прощенной грешницы, глаза, икры, круглые коленки, ноги целиком, бедра, а если повезет — и то, что повыше, в глубине.