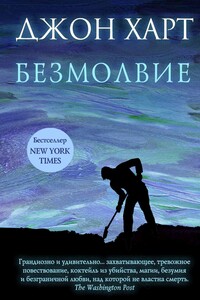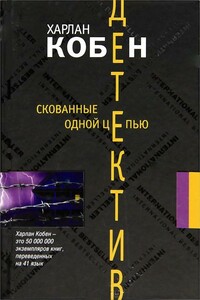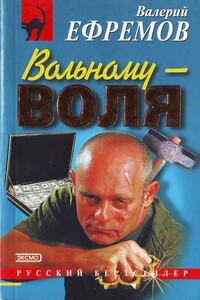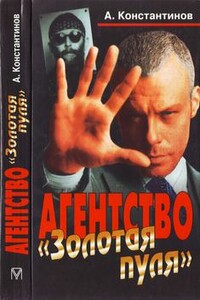Река – одно из самых ранних моих воспоминаний. Главное крыльцо отцовского дома смотрит на нее с невысокого взгорка, и у меня сохранились фотографии, выцветшие и пожелтевшие, моих первых дней на этом крыльце. Я спал на руках у своей матери, сидящей тут в кресле-качалке, играл рядом в пыли, пока мой отец ловил рыбу, и даже сейчас мог представить эту реку, как наяву: медленное бурление красных глинистых струй, ползущие вспять воронки водоворотов под обрывистыми берегами, шелестящий шепот, которым она делится своими секретами с твердым розовым гранитом округа Роуан… Все, что сформировало меня, произошло возле этой реки. Я потерял свою мать на виду у нее, встретил свою первую любовь на ее берегах. Я до сих пор мог ясно ощутить, как она пахла в тот день, когда отец спровадил меня отсюда. Эта река стала частью моей души, и мне уже казалось, что я потерял ее навсегда.
Но все имеет свойство меняться – вот что я твердил себе. Забываются прошлые ошибки, прощаются давние обиды. Вот это-то и привело меня домой.
Надежда.
И гнев.
Я провел без сна уже тридцать шесть часов, десять из которых просидел за рулем. Неделями не находил себе места, не спал ночами – и это решение потихоньку прокралось в меня, будто вор. Я никогда не собирался возвращаться в Северную Каролину – навеки похоронил ее, – но не успел и глазом моргнуть, как вот мои руки уже лежат на руле, а Манхэттен тонущим островом проваливается за горизонт на севере. На лице у меня недельная щетина, на плечах – джинсовка, из которой я не вылезал три дня, я охвачен таким напряжением, что граничит с болью, но любой здесь узнает меня с первого же взгляда. На то они и родные места, к лучшему это или к худшему.
Едва впереди показалась река, как нога сама собой слетела с педали газа. Солнце все еще низко висело над деревьями, но я чувствовал, как оно упорно лезет вверх, ощущал его жесткий, жаркий напор. Остановив машину на дальней стороне моста, ступил на раскрошенный гравий и опустил взгляд на реку под названием Ядкин. Зарождающаяся где-то в горах, она протянулась через просторы обеих Каролин. В восьми милях от того места, где я стоял, река касается северного края фермы «Красная вода» – земли, которой наше семейство владело с тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Еще миля, и вот она уже скользит мимо дома моего отца.
Мы не общались целых пять лет, мой отец и я.
Но не по моей вине.
Прихватив с собой на берег банку пива, я встал в самом низу. Под растрескавшийся мост убегала полоска гладкой земли, усыпанной речным мусором. Ивы нависали над самой водой, и я заметил привязанные к их нижним ветвям пластиковые молочные канистры, подпрыгивающие на течении. Где-то там под ними, в слое ила, скрывались крючки, и одна из канистр сидела в воде совсем низко. Глядя, как она двигается, я с треском открыл пиво. Белая емкость погрузилась еще глубже и повернула против течения. Двинулась вверх по реке, оставляя за собой острый треугольный след. Ветка дернулась, и канистра остановилась – на белесом пластике заиграли красноватые отсветы от реки.
Прикрыв глаза, я подумал о тех, кого был вынужден покинуть. После стольких лет я ожидал, что их лица поблекнут, а голоса истончатся, потеряют выразительность и объем, но это оказалось не так. Воспоминания затопили меня с головой, ошеломляюще живые и яркие, и я ничегошеньки не мог с этим поделать.
Больше мне это было не под силу.
Выбравшись из-под моста, я наткнулся на малолетнего мальчишку на запыленном велике. Он опирался одной ногой о землю, нерешительно улыбаясь. Лет, может, десяти, в продранных джинсах и расхлябанных высоких кедах. С плеча на завязанной узлом веревке у него свисало ведро. Моя большая немецкая машина по соседству с ним выглядела космическим кораблем из иной галактики.
– Чудесное утречко, – сказал я.
– Да, сэр. – Он кивнул, но с велика не слез.
– На донку ловишь? – спросил я у него, махнув рукой вниз на ивы.
– Поставил вчера две штуки, – отозвался мальчуган.
– Там же их три.
Он помотал головой.
– Одна папина. Это не считается.
– Там на средней вроде что-то увесистое.
Его лицо осветилось, и я понял, что это его собственная снасть, а не его старика.
– Может, подсобить? – спросил я.
– Нет, сэр.
В детстве я частенько таскал из этой реки сомов, и, судя по тому, как средняя канистра недвижимо напряглась в воде, ему наверняка предстояло иметь дело с настоящим чудовищем – обтянутым глянцевой черной шкурой, всосавшимся в придонный ил зверем, который мог легко потянуть фунтов на двадцать[1].
– Ведро-то не маловато? – сказал я ему.
– А я его прямо тут разделаю.
Его пальцы гордо двинулись к тонкому ножу на ремне – к захватанной деревянной рукоятке с бледными, вытертыми до блеска металлическими заклепками. Ножны были из черной кожи, с паутинкой белых трещинок там, где он не смазал их должным образом защитной пропиткой. Парнишка разок коснулся рукоятки, и я ощутил его нетерпение.
– Ну ладно тогда. Удачи.
Я обошел его по широкой дуге, а он так и не слез со своего велика, пока я не отпер машину и не забрался за руль. Пацан перевел взгляд с меня на реку, и улыбка расползлась по его лицу, когда он перекинул тонкую ногу через седло. Выезжая на дорогу, я глянул на него в зеркало заднего вида – на запыленного мальчишку в бескрайнем, залитом мягким желтым светом мире.