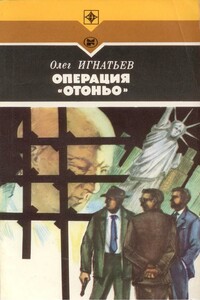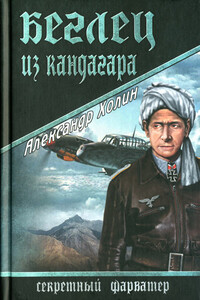Когда у входа в камеру смертников Власов немного замешкался и молодой конвоир ударом в спину втолкнул его в тюремное пристанище, другой, годами и чином постарше, назидательно проворчал:
— Смертник он теперь. Смертников не бьют, испокон веков так заведено.
— Предателей — можно, — процедил ударивший. — Этих — всегда «заведено» было: хоть бить, а хоть сразу вешать.
Он уже хотел закрыть за лишенным всех наград и званий командармом стальную дверь, но в это время послышались чеканные шаги и жесткий, словно сквозь жестяное сито процеженный, голос генерала Леонова[1]. Того самого, что возглавлял следствие по делу «командного состава Русской Освободительной Армии» и, в присутствии следователя Комарова, несколько раз лично допрашивал ее командующего.
— Попридержать дверь, конвойный! Я сказал: попридержать! — прикрикнул он, хотя тот и так оцепенел и даже успел произнести свое уставное: «Есть, попридержать!»
Леонов приказал часовым отойти от двери и, прикрыв ее за собой, несколько мгновений стоял напротив обессиленного, более обычного сутулящегося и как-то мгновенно состарившегося Власова.
Рука его с портсигаром дрожала точно так же, как и рука смертника, которого он угощал и который все никак не мог приноровиться к пламени трофейной немецкой зажигалки генерала.
— Когда казнь? — едва слышно спросил Власов, с трудом совладал с охватывавшей его нервной дрожью.
— Уже сегодня, на рассвете. Сейчас половина третьего.
Власов молча кивнул и сделал несколько глубоких затяжек.
Генерал взглянул на лицо осужденного: оно посерело и настолько осунулось, что можно было просматривать все очертания черепа.
— Сталин хоть знает, что?..
— Верховный все знает, — резко прервал его Леонов, оставаясь верным своей привычке называть Сталина только так. — Вы ведь прекрасно помните, Власов, что первоначально суд должен был состояться еще в апреле. Так вот, в связи с этим, еще в марте было принято решение: всех подсудимых по данному процессу приговорить к смертной казни через повешение, на основании пункта 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля сорок третьего года. И привести приговор в исполнение «в условиях тюрьмы».
— Значит, еще в марте?
— У подножия эшафота лгать не пристало.
— Почему же вы раньше считали это возможным для себя, генерал?
Леонов едва заметно ухмыльнулся. Он вдруг вспомнил любимое выражение Абакумова — «гнать следственную мерзость». Так вот, ложь в беседах с обреченным он мог объяснить и оправдать сейчас только этим — необходимостью гнать эту самую «следственную мерзость».
— И что было бы, если бы вы знали о таком решении, Власов? Что изменилось бы?
— Вел бы себя совершенно по-иному. И на допросах, и на суде.
— Вы?! По-иному?!
— Что в этом странного? — воинственно нахмурился Власов.
— Не льстите себе, командарм. Вести себя по-иному вы уже не способны были, и вы это прекрасно знаете. Как известно вам было и то, что в нашей стране отправлены на смерть тысячи командиров, которые не имели и сотой доли той вины перед Родиной, с какой пришли в эту камеру вы, крестный отец кроваво-предательской «власовщины».
Леонов говорил спокойно, не повышая тона, однако смысл слов оказался настолько унизительно хлестким, что обреченный вздрагивал под ними, как под ударами хлыста.
— Мне известно, скольких здесь казнили до меня, однако…
— Дело не в том, скольких в этих стенах казнили до вас, — чуть было не сорвался на крик начальник следственного отдела. — А в том, что вы, лично вы, бывший из бывших, не способны были вести себя иначе, потому что, вместо того чтобы готовиться встретить смерть достойно, как подобает солдату, вы мелочно цеплялись за любую возможность спасти свою шкуру. Поэтому-то совершенно откровенно говорю: слушать вас на суде было мерзко.
— Согласен, это действительно было мерзко, — неожиданно пробормотал комдив.
— Причем не потому мерзко, что вы предатель, враг; эти стены и не таких видели, а потому, что слишком уж жалким выглядели, совершенно не похожим на того Власова, который в течение нескольких военных лет представал перед нами в ипостаси командарма РОА.
— В ипостаси командарма, — с безразличием обреченного пролепетал Власов.
— Когда вы в очередной раз мелочно уличали кого-то из своих бывших подчиненных во лжи, не то что перед офицерами РОА, перед бойцами конвоя стыдно было.
— Теперь я и сам признаю это, — тихим, срывающимся голосом, глядя себе под ноги, произнес командарм. — Выглядело это действительно постыдно.
Только теперь обреченный поднял глаза, чтобы умоляюще взглянуть на своего мучителя. Он явно просил о пощаде.
— Утешением вам может служить только то, что и подчиненные ваши вели себя так же гнусно, как и их командир, — скорее по инерции, чем из желания еще раз нанести ему словесный удар под дых, изощрился начальник следственного отдела.
Впрочем, он тоже имел право на некий профессиональный триумф: что ни говори, а в следственном поединке с Власовым — «с самим Власовым!» — этого зубра демагогии он переиграл начисто. Потому и не сомневался, что руководство это заметит и оценит.