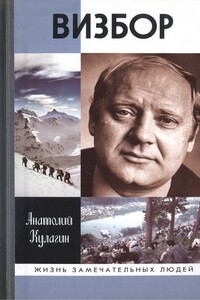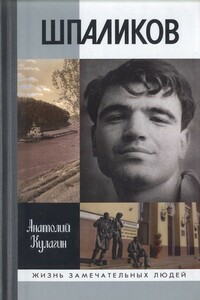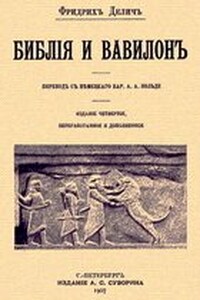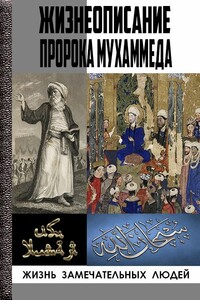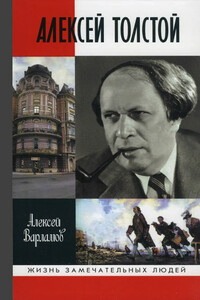«БЕЗОТЦОВЩИНА С УЛИЦ ГОРБАТЫХ»
«А за бортом — представляешь, как дует!..»
Сколько себя помнил — всегда задирал голову в небо, заслышав звук самолётного мотора, а дома — постоянно рисовал самолёты. Для мальчишек его поколения слово «лётчик» звучало особой музыкой. Музыкой подвига. 1930-е годы — золотой век молодой советской авиации. Шутка ли: наши лётчики спасают — как раз в год его рождения — команду сдавленного льдами в Чукотском море парохода «Челюскин», совершают перелёт через Северный полюс. Чкалов, Байдуков, Беляков, Ляпидевский, Леваневский, Каманин… В их честь сразу же назывались улицы. Как хотелось быть похожими на них!
Авиация привлекала не только детей, но и взрослых — например его маму. Она водила его на Центральный аэродром, что на Ходынском поле, показывала тогдашнее авиачудо — огромный восьмимоторный самолёт «Максим Горький». Жаль, что Юра, в ту пору совсем ещё маленький, этого не запомнил. Первые самолёты, которые врезались в его память, были другими — боевыми. Летом 1941-го они — и с гитлеровской свастикой, и с советскими звёздами — стали появляться над Москвой. Юра и другие ребята распознавали их уже издалека и безошибочно определяли марку: вражеские «мессершмитт», «юнкерс». Или наши — Ми Г-3, Як-1… Дружинники, дежурившие на крышах и тушившие там в ящиках с песком зажигательные бомбы, дали им выпущенную в начале войны книжку «Силуэты самолётов» («памятку для красноармейца») с изображением всех воздушных машин: солдаты должны были уметь отличать свои самолёты от вражеских.
Одну такую машину Юра вскоре увидит совсем близко: в первое военное лето, когда враг стремительно рвался к советской столице, на площади Свердлова, напротив Большого театра и почти у самого Кремля, был выставлен на всеобщее обозрение подбитый, но сумевший приземлиться и потому уцелевший фашистский бомбардировщик «Юнкерс-88». Это было событие! И взрослые-то москвичи толпами шли взглянуть на необычный трофей, а уж о мальчишках нечего и говорить. Они так и норовили забраться на него, хотя рядом стоял милиционер с пистолетом в кобуре и постоянно их отгонял…
Мечта о небе жила в душе Юры Визбора всю войну и в послевоенные годы. Не оставляла и позже, когда уже стало ясно, что профессия у него будет другая. Лётчиком он не станет, а летать в качестве пассажира ему доведётся много, очень много. И не одну песню сочинит он прямо на борту самолёта: небо будет щедро дарить вдохновение поэту, признавшемуся как-то, что авиарейсы (особенно дальние) были для него «идеальной возможностью для сочинительства». Только Визбору дано будет сказать: «Самолёт, мой отчаянный друг…» Но до тех пор, когда он впервые поднимется под небеса, — ему, ребёнку, придётся немало поездить поездом…
Родители будущего поэта познакомились в 1931 году. Мария Григорьевна Шевченко, родившаяся в 1912-м в Краснодаре в семье кочегара Григория Павловича и Евдокии Антоновны Шевченко и окончившая там медицинское училище (по специальности — фельдшер), отправилась работать в приморский город, быстро превращавшийся тогда в центр массового отдыха советских граждан. Конечно, иногда ездила к родным домой. В поезде Краснодар — Сочи и произошла встреча с будущим мужем Иосифом Ивановичем Визбором, уроженцем латвийского города Либава (Лиепая). В автобиографии, написанной в 1981 году как предисловие к составленному Юрием Черноморченко «самиздатскому» машинописному сборнику песен барда, Юрий Визбор напишет о своих литовских корнях и о том, что настоящее имя отца — Иозас Визборас. Сын считал, что превращение из «Иозаса Визбораса» в «Иосифа Визбора» произошло в советское время; тогда таким образом упростились фамилии многих выходцев из национальных окраин (а изменённое имя совпало с именем вождя и поневоле стало знаковым для той эпохи). В литовской версии произносит фамилию мужа и Мария Григорьевна в одном из документальных телефильмов о сыне.
Впрочем, исследователь биографии Визбора Анатолий Азаров обратил внимание на то, что во всех архивных документах, в том числе и дореволюционных, фамилия и отца, и деда (о котором — ниже) пишется уже в краткой форме: Визбор. Так что «обрусение» произошло, возможно, раньше. А может быть, именно на уровне официальных бумаг оно и произошло, тем более что общая русификация отличала внутреннюю политику не только СССР, но и Российской империи. Кстати, в служебных анкетах в графе «национальность» Иосиф Визбор писал о себе: «латыш», а отца называл не «Ионас», а «Иван (Иоганн) Осипович». Здесь стоит забегая вперёд заметить, что при оформлении на работу в 1958 году Юрий Визбор напишет в автобиографии о своём отце то же самое: «латыш».
В 1965 году он получит письмо из Каунаса от своей тётки — родной сестры отца, Антонины Шумаускене, о которой прежде он ничего не знал. Она же, в свою очередь, ничего не знала о судьбе своего репрессированного брата, фамилию которого она писала как «Визбарас», то есть не через «о» во втором слоге, а через «а», как это и принято в литовских фамилиях такого типа. Она прочтёт о Юрии в журнале «Огонёк» и пошлёт ему письмо в надежде: не родственник ли? Оказалось, что родственник, причём близкий. Не это ли письмо станет причиной того, что латышская версия происхождения поэта сменится в сознании Юрия на литовскую? И не могло ли быть так, что литовцами