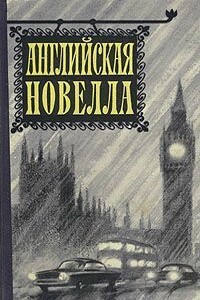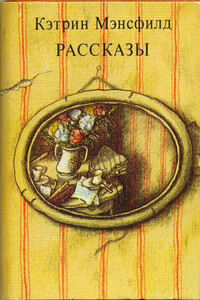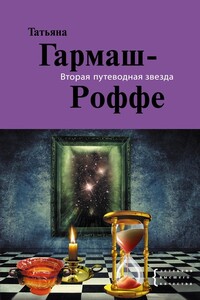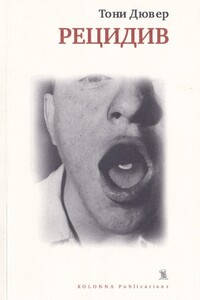Неожиданно — к своему ужасу — она проснулась. Что произошло? Случилось нечто ужасное. Нет — ничего не случилось.
Только ветер раскачивал дом, трещали окна, грохотал кусок железа на крыше и от этого она ужасно дрожала.
За окном туда-сюда порхали листья; внизу на бульваре целая газета парила в воздухе как потерянный бумажный змей и падала, натыкаясь на сосновые иголки.
Холодно. Лето закончилось, наступила осень — все казалось безобразным. Грохотали телеги, качаясь из стороны в сторону; два китайца бежали вперед вприпрыжку под деревянными хомутами с переполненными овощными корзинами — их косички и синие блузы развевались на ветру.
Мимо калитки, скуля, проковылял на трёх лапах белый пёс. Всё закончилось! Что именно? Да всё! И она принялась заплетать волосы трясущимися пальцами, не осмеливаясь взглянуть в зеркало. В прихожей мама разговаривала с бабушкой.
Вот дурочка! Как можно в такую погоду что-то оставлять без присмотра… Теперь вот моя лучшая чайная скатерть канарской вышивки просто превратилась в клочья. Чем это так странно пахнет? Каша пригорает. О, господи, всё этот ветер!
В десять часов у неё начинается урок музыки. От этой мысли минорные пассажи из пьесы Бетховена [1] зазвучали в её голове, трели, длинные и ужасные, как маленькие раскатистые барабаны….
Мари Свенсон забегает в сад по соседству нарвать «хризантемочек», пока их не смело. Её юбка взлетает выше талии; она пытается сбить её вниз, подвернуть между ног, пока она нагибается, но всё без толку — юбка опять взлетает.
Рядом с ней колышутся ветви деревьев и кустов. Она как можно быстрее срывает цветы, но она в смятении. Не осознаёт, что делает — выдёргивает растения с корнями, сгибая стебли, выкручивает их, топая ногами и ругаясь.
— Ради бога, не открывай парадную дверь! Обойди с чёрного хода, — кричит кто-то. Потом она слышит голос Боуги:
— Мама, тебя к телефону. Телефон, мама. Это мясник.
Как чудовищна жизнь — отвратительна, просто отвратительна… Теперь вот и лента у её шляпки порвалась. А как же ещё? Она наденет свой старый берет и улизнёт с чёрного хода. Но мать уже заметила.
— Матильда. Матильда. Вернись не-мед-ленно! Что у тебя такое на голове? Выглядит как грелка для чайника. И почему у тебя на лбу копна волос?
— Я не могу возвращаться, мама. Иначе я опоздаю на урок.
— Вернись немедленно!
Она не хочет. Она не будет возвращаться. Она ненавидит мать. Иди к чёрту, — выкрикнула она, убегая вниз по дороге.
Волнами, клубами, большими вихревыми кругами надвигается едкая пыль, а в ней мелкие пучки соломы и силос с навозом. Ветер с ревом проносится по деревьям в садах, и стоя в конце дороги у калитки мистера Буллена, она слышит рыдающие звуки моря: «А-а!.. А-а!.. А-а-а!»
Но в гостиной мистера Буллена тихо как в пещере. Окна закрыты, шторы наполовину опущены, и она не опоздала. Девочка, которая приходит «перед ней», только что заиграла «К айсбергу» Макдауэлла[2]. Мистер Буллен переводит на неё взгляд и слегка улыбается.
— Садись, — говорит он. Садись там в уголке на диване, маленькая леди.
Он такой весёлый. Смеётся он не то чтобы над тобой… но есть что-то… Ну до чего же здесь спокойно. Ей нравится эта комната.
Пахнет мебельной саржей, и застоявшимся дымом, и хризантемами… большая ваза с ними стоит на каминной полке позади бледной фотографии Рубинштейна… [3] мой друг Роберт Буллен.
Над чёрным, сверкающим пианино висит картина «Одиночество»[4] — темноволосая, трагического вида женщина, укутанная в белое, сидит на камне, скрестив ноги и придерживает ладонями подбородок.
— Нет, не так! — говорит мистер Буллен и наклоняется над той, другой девочкой, протягивает руки над её плечами и играет для неё тот пассаж. Глупенькая — она покраснела! До чего же смешно!
Вот девочка, что «перед ней» ушла, захлопнулась входная дверь. Мистер Буллен возвращается и тихонько прохаживается взад и вперёд — в ожидании её. Но до чего же необычно.
Пальцы так дрожат, что ей не развязать узел на папке с нотами. Всё этот ветер… И сердце бьется так сильно, что кажется, будто оно своими движениями приподнимает ей блузку.
Мистер Буллен не говорит ни слова. Потертое красное сиденье у пианино достаточно длинное. На нем легко бок о бок могут уместиться два человека. Мистер Буллен садится рядом с нею.
— Мне начинать с гамм? — спрашивает она, сжимая свои руки. Я выучила также несколько арпеджио.
Но мистер Буллен не отвечает. Она сомневается, что он вообще слышит её… и тут вдруг его бодрая рука с кольцом на пальце протягивается сверху, и он открывает Бетховена.
— Поиграем немного этого старого мастера, — произносит он.
Но почему он говорит с такой добротой — таким ужасно приятным голосом — будто они знают друг друга много-много лет и знают всё друг о друге?
Он медленно переворачивает страницу. Она следит за его рукой — это очень изящная рука и всегда выглядит так, как будто её только что вымыли.
— Вот отсюда, — говорит мистер Буллен.
О, этот добрый голос — о, эти печальные звуки. Опять застучали маленькие барабаны….
— Мне повторить?
— Да, милое дитя.
Голос у него очень добрый и даже слишком. Четвертные и восьмые ноты отплясывают на нотном стане то вверх, то вниз, как маленькие чёрные мальчишки на заборе. Почему он такой… Она не будет плакать — ей и не о чем…