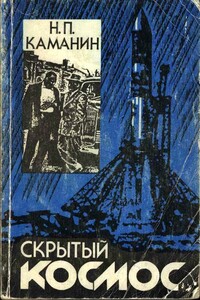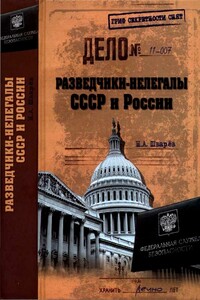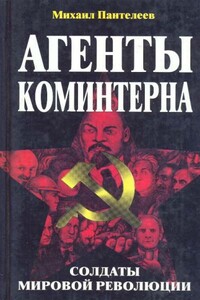Жена пилота Квасницкого — тридцатилетняя, слегка располневшая блондинка, с серыми добрыми глазами — отличалась тем, что всегда тревожилась за других.
Ей мало было постоянных переживаний за мужа (когда он улетал, она ждала и поглядывала на часы; если же приходилось ему задержаться, она места себе не находила), за детей, которые бегали по улице, заставляя ее поминутно вскидываться к окну и смотреть за ними, и она находила еще кого-то, о ком должна была повздыхать…
Вечером, когда Квасницкий возвратился домой, она два раза сказала ему, что Свиридовы разводятся, повздыхала и путано, явно с чужих слов, открыла причину развода.
— Познакомился он в рейсе, — говорила она медленно, с напевом и нажимая на букву «о» и глядела на мужа не то жалостливо, не то с обидой. — Повстречались они, а теперь он уходит из семьи. Что ж это такое?.. Да и где повстречались?! На работе. Летала она с ним, или как уж произошло, но не дело это. Не дело. Какая она будет, неизвестно, а тут — дети!..
На все это Квасницкий ответил коротким «угу!».
Он сидел у кухонного окна, курил, смотрел на долгие сумерки и думал о том, что начинается лето, а с ним приходит работа: снова придется летать, не знаяни дня, ни ночи, и отпуск летом не получишь, а только в сентябре… да ладно бы — в сентябре, а то выгонят в октябре, когда везде уже дожди, и куда бы ни поехал, солнце совсем не то.
Жену Квасницкий слушал вполуха, потому что говорила она не в первый раз и ничего нового сказать не могла, к тому же он днем видел Свиридова в аэропорту, и тот сам сообщил такую новость. Друзьями они, можно сказать, и не были, но отличали друг друга при встрече, потому что раньше летали в одном экипаже… Квасницкий знал, что Свиридов человек «пскопской» и если что задумал, то настоит на своем, и говорить об этом было бесполезно; его задели слова жены о знакомстве в рейсе, но он промолчал: об этом тоже говорить не пристало. Познакомились да и познакомились, что тут больше скажешь.
Жена сходила к детям, они уже угомонились и спали, а после, войдя на кухню, сказала:
— У мальчика опять весь лоб расцарапан… Что можно делать, чтобы так разукраситься?
Жена отчего-то никогда не называла детей по именам, и моды у нее не было сказать «Ваня» или «Лена», а только: мальчик и девочка. И даже при них говорила так, на что Квасницкий однажды заметил, что можно было бы обойтись и без имен. «А мне оно так нравится, — ответила тогда жена. — Мальчик… девочка. Хорошо!» И продолжала говорить так. Квасницкий привык и иногда и сам — редко, правда, и больше в шутку — говорил сыну:
— Ну-ка, мальчик, подойди сюда!
В этот раз не выдержал и недовольно буркнул:
— Так и имя забудешь.
Жена ничего не ответила, только взглянула на него пристально и сделала вид, что не слышала, и принялась мыть плиту, шумела водой из-под крана, плескала и, вздохнув, проговорила тихо, вроде бы сама себе:
— В наше время и любить-то не умеют, шарахаются от одной к другой. — В голосе ее была досада и обидаза всех, кто шарахается. — А нет, чтобы встретил, так уж держался, не отпускал. Лучшей не будет…
Квасницкий, затянувшись сигаретой и прищурив один глаз, молча смотрел на жену, внимательно слушал ее и кивал головой так, будто хотел сказать: «Мели, мели, Емеля…» Ему надоели эти вздохи, он понимал, куда клонит жена, и в другой раз он бы подошел к ней и сказал, что она-то лучше всех. Этого было бы вполне достаточно… Но теперь он только головой киваличувствовал, как накатывается на него какая-то едкая злость. Жена вроде бы и правильно говорила, но невыносимо становилось от ее слов, от этой правильности. «„Наше время“, — мысленно передразнил он жену, — что-то многие заговорили об этом…»
— А жена, какая ни есть, всегда и встретит, и накормит, — выслушивал Квасницкий. — Да неужто чужая будет так беспокоиться? Нет, вот он встретил ее в рейсе… Ой-ой! Подожди еще, она себя покажет. Или время у нас такое сумасшедшее…
Она оглянулась на мужа и встретилась с его взглядом.
Возможно, — буркнул Квасницкий и хотел было замолчать тут же, но не удержался.
— Только мне кажется, — сказал он сухо и зло и глядя жене прямо в глаза, — что если любили, то любили во все времена одинаково сильно. — Он помолчал и добавил: — Если, конечно, любили!
Жена перестала мыть плиту, повернулась к нему, ожидая продолжения; серые глаза ее потемнели.
— Ты так думаешь? — спросила она дрогнувшим голосом.
— Да, Шура! Я так думаю!
Жена помедлила секунду и сказала, как говорила всегда, когда обижалась:
— Я рада за тебя!
Квасницкий знал, что за этими словами последуют слезы, и, резко встав с табуретки, пошел в спальню. Он уже ругал себя за то, что не сдержался; тихо выругался и плотно прикрыл за собой дверь. «Встретил — так держи, — зло думал Квасницкий и, как был одетым, так и плюхнулся на кровать. — Лучшей не будет… Если бы кто третий был там, да присматривал, да сказал: „Вот это любовь!.. Держись ее!“ Или не любовь, можешь, мол, жить напропалую. Ничего подобного, вперед даже слова не скажет, после только, когда сам станешь грамотным, когда сам доберешь, что к чему…»
— А-а-а! — застонал он неожиданно, как от боли, — что там говорить!