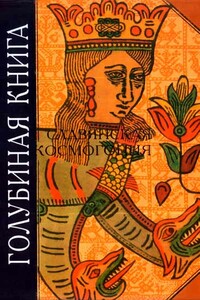КОГДА ПАПА УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВНИЗ
Папа утверждает, что боится умереть. Для него нет ничего страшнее смерти и следующего за ней забвения. Его именно это забвение и страшит. И тревожит. Он говорит, что совершенно не боится физической боли и мучений. Не быть — вот что страшно. Тысяча лет пройдет — а для тебя это словно секунда, если не меньше… Растерять все свои знания, все впечатления, все что ты старательно накопил за жизнь — сгорит в один момент и ничего уже никогда не найти. Ты сгинул. На хрена были нужны учебники, сыновья и постоянно заживающая и кровящая снова язвочка благосостояния? Я чего–то достиг. Я чего–то достиг. Хррр…Хррр…. Зашевелились червячки, засмердело, распухло, лопнуло… Вот и все твои достижения.
Папа говорит, что не хочет жить до ста лет. Сто лет — не цифра и не возраст. Он хочет жить вечно. Он говорит, что пусть на его седую головушку свалятся невероятные страдания и невзгоды, пусть мы все сдохнем тысячу раз, но чтобы он только оставался живой…. Я спорю с ним, пытаюсь напугать тем, что наша планета не продержится долго и ему придется плавать в космосе одному, но папу это не пугает. Он будет плавать. Он будет есть моль и жуков в пустыне и ползать среди обломков. Пусть в голове не останется уже ничего разумного. Только бы остаться самим собой в оболочке родного тела.
Да вот мы как раз и сейчас с ним об этом говорим. Я возмущаюсь — как же это так? Неужели ты даже не против лежать парализованным, ходить под себя и вращать белками измученных глаз из–под натянутого повыше одеяла? И тогда тебе охота жить? И тогда. И даже если все будет в сто раз хуже! Папа говорит, что часто не спит ночью, потому что тихо плачет, как кленовое дерево, в которое заколотили гвоздь. Он не хочет умирать. Он отказывается..
Мы сидим с ним в нашей общей, семейной комнате. В нашей анти–гостинной, в которую никогда никто не приходит погостить. Ковер в пятнышках гноя. Одеяло на полу — тоже в желтоватых пятнышках, но в некоторых местах немножко и краснота проступает… С кровью у нее сегодня… У кого «с кровью»? А зачем вам знать… Оставьте нас в покое. Дайте нам разговаривать и жить в одиночестве. Не заполняйте огромными задницами наш диван. Мы будем говорить о смерти, о том как страшно умирать и о об этих злополучных пятнах…
С балкона доносится пронзительный женский крик. В первый момент я даже подскакиваю с глухим «о, господи!». Мы с отцом выбегаем посмотреть что случилось. На нашем балконе все как всегда. Тапки, моя пепельница, ящик с ведрами и роза в горшке, которая обманула меня и не дала в этом году цветов.
Мы живем на девятом этаже, а крик доносится слева от нас — с восьмого. Там на своем балконе мечется женщина средних лет одетая в кофточку и штанишки. Ей холодно — на дворе декабрь. Хотя, она конечно немножко кривляется и переигрывает. Не может ей быть уж настолько люто. Она кричит, что закрылась на балконе и не может войти внутрь квартиры. А входная дверь заперта изнутри на замок, поэтому она совсем в беде… Она пронзительно завывает от холода… Что делать?
Папа бежит в прихожую, хватает с вешалки куртку и несет ее на балкон. Он начинает размахивать курткой и кричит женщине, чтобы она ее ловила. Она готова принять наше теплое, флисовое жертвоприношение. Раскидывает руки и ждет…
Папа перевешивается через балконные перильца. Перевешивается как только может. Заносит руку для броска, кидает что есть силы куртку в женском направлении, но теряет баланс, перекатывается через перила и устремляется вниз. Мимо веток деревьев, на котором вороны, помогая друг другу, недавно построили гнездо, мимо окон восьмого этажа и мимо седьмого тоже. Вниз — на костоломный цемент, на поставленный на площадке первого этажа гриль для мяса. На груду кирпичей и на горшки, в которых летом будет цвести душистый табак и петуньи.
А я стою, вцепившись руками в перила и не могу даже пискнуть. Или хотя бы для приличия возопить: «Папка! О, милый старый папка!!! Куда ты?» Да и он летит тоже молча. Сначала он падал боком, а уж после шестого этажа начал лететь вниз головой… А я все смотрю на его ноги — как широко они расставлены при полете! Это же невозможно так их расставить! Раскорячены до предела. Как мужской циркуль, как куриная тушка, когда ее разделываешь и раздвигаешь ей лапки, чтобы потом разорвать на две части. Как роды на дому, как гинекологическое кресло, как умирающая под ботинком лягушка. Нет! Они совсем как–то уж страшно расставлены…Одна нога тут, в десяти метрах от сиротеющего сына, а другая уже хуй знает где. Уже за обледеневшей рекой, за горизонтом, ближе к Америке…уже пограничники наверное ее обозревают и дивятся на такое чудо.
Папа давно уж упал. Крики снизу, крики сверху. Уже и скорую вызвали, орут что–то о воздухе, о крови и о том, что надо что–то немедленно извлекать. А я все стою, вцепившись в перила и понимаю, что самое бы мне время сейчас бросить все настоящее, бросить бред этот сивый…Такая ситуация дает разрешение на все. Напрячь мускулатуру до треска и потемнения и окончательно спятить. Тогда ведь и анти–гостинная не понадобится. Меня тогда вообще никто не найдет. Клещами акушерскими — и то никто не вытащит нужного им меня из глубины освободившегося ума.